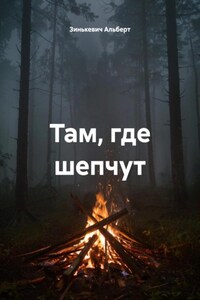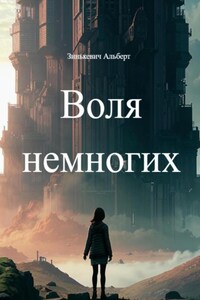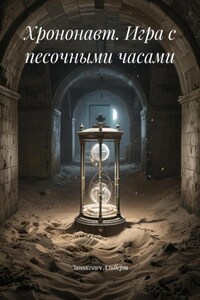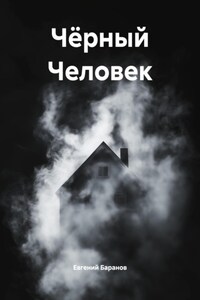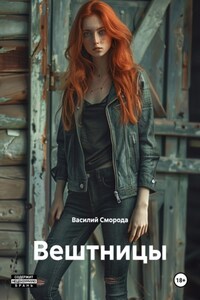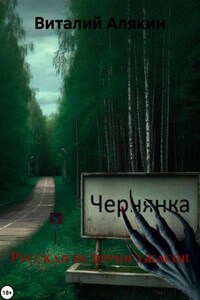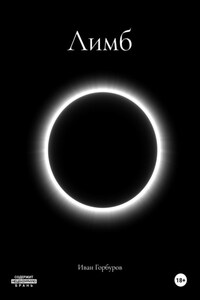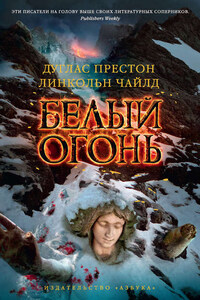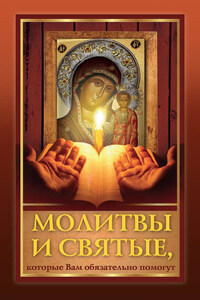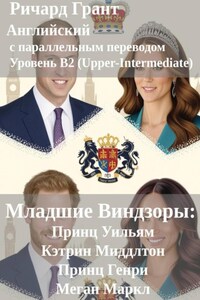Глава 1: Костёр на краю Чертова Болота
Воздух над Чертовым Болотом к ночи становился густым, как сироп, и холодным, как могильный камень. Дневное тепло, выжатое из земли редким июльским солнцем, уступало место сырому дыханию топи, поднимавшемуся белесыми струйками тумана. Они клубились над ржавой водой, цеплялись за чахлые островки осоки и багульника, а потом, набравшись наглости, стелились по земле, наползая на редкий сосняк, обрамлявший гиблое место.
Именно на этой кромке, где еще чувствовалась под ногами твердая земля, но уже витал сладковато-гнилостный запах трясины, мы разбили лагерь. Не от хорошей жизни. Васькина «Нива», наш верный конь, захлебнулась масляным голодом посреди глухого егерского кордона в полсотне километров отсюда. Идти назад – два дня по болотистым тропам. Решение срезать путь мимо Скворцова казалось тогда разумным. «Заброшенная деревенька, пара изб, – флегматично заметил Лёха, тыкая пальцем в потрепанную карту. – Пройдем краем, даже не заглядывая. К вечеру будем у речки, там и переночуем».
Местный дед, встреченный накануне у поворота с большака, только хрипло закашлял в кулак, услышав наш план. Его глаза, мутные, как вода в лесной луже, скользнули по нам с каким-то странным, затаенным ужасом. «Скворцово? – переспросил он, крестясь широким, небрежным жестом. – Да там же… Чертово Болото. Место нечистое. К ночи не задерживайтесь. Следите за знаками… Они защитят. Их ставили… когда еще боролись с этим местом. Старались оградить… но потом бросили. Сдались. Там… слушать нельзя». Он не стал объяснять, что именно. Просто стегнул вялую клячу, и телега, скрипя, укатила прочь, оставив нас в облаке пыли и внезапно сгустившейся тишины.
Костёр – вот наша крепость, наш рубеж против надвигающейся ночи и того незримого ужаса, что, казалось, уже витал в воздухе. Мы разожгли его на самой опушке поляны, спиной к относительно сухому лесу, лицом – к зыбкой черноте болота. Пламя весело зализывало сухие дубовые поленья, вырывая из темноты кусок рыжей земли, наши палатки, озаряя лица теплым, живым светом. Первые часы прошли почти по-обычному: хруст сухарей, шипение колбасы на импровизированной рогульке, гитара в руках Лёхи, чей баритон пытался перекричать кваканье лягушек где-то в топи. Даже Иринка, наша главная трусиха, закутанная в огромный вязаный плед «от сглаза» (бабушкин подарок), улыбалась, подпевая.
Но чем глубже погружалась ночь, тем сильнее давила тишина. Не та мертвая тишина городской квартиры, а живая, пульсирующая. Она нависала тяжестью после каждой песни, после каждого смешка. Она была в треске поленьев, в далеком, ледяном уханье невидимой совы над болотом, в шелесте листвы на границе света – не ветром вызванном, а словно бы от неосторожного движения чего-то большого, скрытого во тьме. Она слушала. Всей своей густой, тягучей массой слушала нас.
Васька с Катькой, уставшие больше всех от возни с машиной и дороги, первыми сдались. Их палатка затихла, лишь глухое, ровное сопение Васьки нарушало тишину изнутри нейлоновых стен. Мы трое – я, Лёха и Иринка – досиживали последние угли. Иринка подтянула колени к подбородку, укутавшись пледом с головой, как монахиня. Ее большие, обычно смеющиеся глаза теперь казались огромными и темными в тени капюшона пледа. Она вздрагивала от каждого звука – от внезапного хлопка лопнувшего пузыря смолы в костре, от громкого чавка где-то в топи, от шороха, который могла вызвать пробегающая мышь или что-то иное.
Лёха, наш вечный балагур, сидел необычно тихо. Он не подбрасывал дров, не шутил. Его лицо, освещенное снизу багровым светом углей, казалось резкой маской – глубокие тени подчеркивали скулы, морщины у рта. Он не сводил глаз с огня, словно читал в его причудливых языках пламени какую-то страшную, только ему ведомую книгу. Его пальцы нервно перебирали гитарную струну, издавая едва слышный, дрожащий звук.