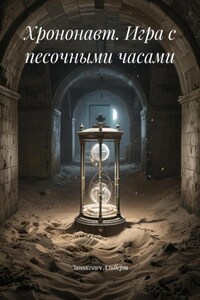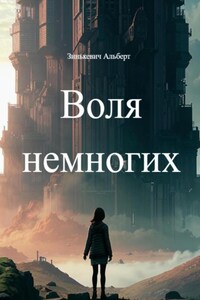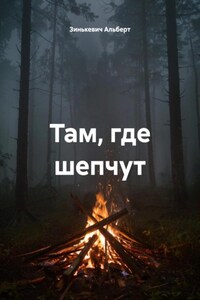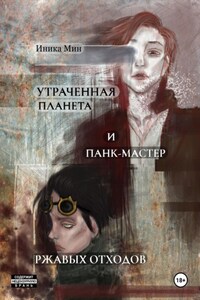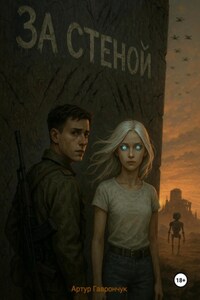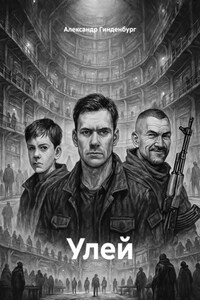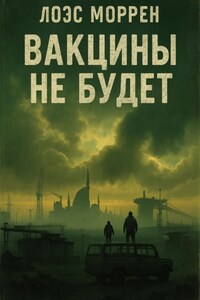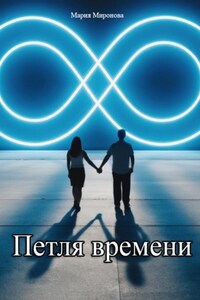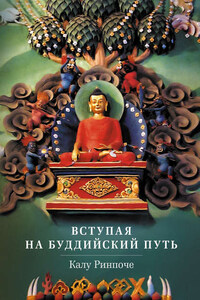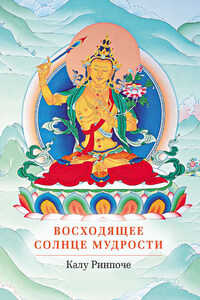Глава 1. Сингулярность в подвале
"Различие между прошлым, настоящим и будущим – не более чем иллюзия, хотя и весьма навязчивая." – Альберт Эйнштейн
Пыль. Она вездесуща в этом подвальном царстве, пропитанном запахом старой бумаги, озона и отчаянных надежд. Артём Волков щурился, вглядываясь в мерцающие строки кода на мониторе, его лицо, освещенное холодным голубоватым светом экрана, казалось высеченным из усталого камня. Тридцать семь лет, но глубокие морщины у глаз и жесткая складка между бровями выдавали напряжение последних пяти. Пять лет с тех пор, как исчезла Лера.
Он отпил глоток холодного, почти горького кофе из потрескавшейся кружки с логотипом МФТИ – реликвии студенческих времен. Лаборатория, гордо именуемая «Сектором Квантовой Хронометрии», на деле представляла собой захламленный подвал университетского корпуса №3. Стеллажи, громоздящиеся до потолка, были завалены коробками с компонентами, папками с пожелтевшими распечатками и приборами, чье назначение было понятно лишь ему да, пожалуй, еще паре таких же одержимых энтузиастов на кафедре теоретической физики. В центре этого хаоса, как алтарь безумного бога, стояла установка. Его детище. Его Голем.
Официально проект назывался «Квантовые Часы: Исследование Дискретности Временного Континуума». Сухая, академическая формулировка, скрывавшая дерзкую мечту: не просто измерить время точнее атомных часов, но увидеть его структуру, его квантовую «ткань». Установка напоминала гибрид телескопа и реактора из фантастического фильма. Основа – мощный лазерный интерферометр, чьи зеркала и призмы были ювелирно выверены. Его лучи сходились в центральной камере, где в магнитной ловушке, охлаждаемой жидким гелием почти до абсолютного нуля, вибрировал единственный ион иттербия. Этот ион и был сердцем часов – его квантовые переходы должны были стать сверхточным метрономом Вселенной. Вокруг камеры оплетались кабели, уходившие в блоки управления, усилители, аналого-цифровые преобразователи и, наконец, к ряду серверных стоек, гудевших как улей. На мониторе перед Артёмом бежали потоки данных: частота колебаний иона, состояние магнитного поля, температура, давление, фоновое излучение – тысячи параметров, сливавшихся в цифровую реку времени.
Артём вздохнул, откинулся на спинку старого офисного кресла, скрипнувшего протестом. Эксперимент шел непрерывно уже две недели. Дни и ночи слились в одно серое пятно, разбитое лишь редкими выходами на поверхность за едой и еще более редкими попытками поспать на раскладушке в углу. Финансирование проекта висело на волоске, публикаций не было, коллеги на кафедре поглядывали с плохо скрываемым скепсисом. «Волков и его вечный двигатель», – слышал он шепотки в курилке. Но он не мог остановиться. Потому что где-то в глубине души теплилась безумная, ничем не подкрепленная надежда: если он сможет понять время до самых его основ, найти его слабые места, его «швы», то, возможно, он найдет и Леру. Или хотя бы узнает, что с ней случилось в тот вечер, когда она вышла из кафе на Чистых прудах и растворилась в осеннем тумане, оставив лишь перевернутый стул и разбитую чашку. Полиция развела руками. «Нет следов, Артём Игоревич. Никаких насильственных действий. Как сквозь землю провалилась». Но он знал свою сестру. Легкомысленная? Иногда. Но не настолько, чтобы исчезнуть без единого слова.
Внезапно монитор резко мигнул. Артём нахмурился, придвинулся ближе. График частоты колебаний иона иттербия, обычно представлявший собой почти идеальную прямую с микроскопическими флуктуациями, дернулся. На долю секунды линия дрогнула, словно споткнулась, и показала резкий, немыслимый пик – значение, выходящее далеко за пределы всех теоретически возможных колебаний для этого иона в данных условиях. Затем так же резко вернулась к норме.