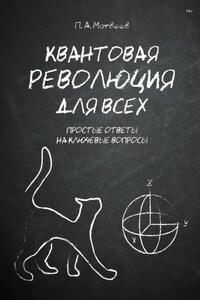В помещении не было окон. И всё же оно не тонуло во тьме. Свет падал откуда-то сверху, мягкий и рассеянный. Не было сцены, подиума. Только полукруг кресел. В каждом – человек. На каждом – маска. Белая, без знаков, с прорезями для глаз, за которыми ничего. Или всё сразу.
Едва слышно работала вентиляция. Стены обиты бархатом не из роскоши, а чтобы гасить эхо. Казалось, здесь важнее не слова, а тишина между ними. Они сидели. Никто не знал, зачем он здесь. И всё же никто не встал. В этом уже угадывался общий код. Никаких имён. Никаких приветствий. Человек в чёрном поднялся. Без знака, без разрешения. Он знал: кто-то должен начать, и этого достаточно.
Лёгкая стерильность стояла, словно перед началом чего-то необратимого. Вентиляция выдохнула чуть сильнее, и один локон чужих волос задел маску, прилип к щеке и снова отпал. Он посмотрел не в зал, а внутрь зала. В самую его тишину.
– Если бы вам показали вас со стороны, вы бы узнали себя?
Молчание стояло, как общий сбой в дыхании. Не от страха, от точности. Теперь было ясно: игра началась. Без правил. Без приза. Без гарантий. И выхода не было.
Вечерело. Солнце уже ушло за горизонт, но его отзвук тлел багряными всполохами на стеклянных фасадах. Город провожал спешащих домой. Дома вдоль Нового Арбата зажглись, и в каждом окне – своя маленькая глава: где-то силуэты, где-то плотные шторы, за которыми жизнь предпочла остаться внутри. А в одном окне кто-то тряхнул скатертью, и пыль вылетела наружу в вечерний свет.
Ротшильд смотрел на этот узор света и пытался угадать судьбы тех, кто прятался за стеклом. Кто-то ужинает, кто-то спорит, кто-то одиноко курит, высунувшись из окна и глядя вниз с двадцатого. В этом силуэте он узнал Прокофия Фёдоровича. «Старик верен себе», – мелькнула улыбка. Прямота, ирония, честность с собой – за это он уважал его последовательность.
Суета, тревоги, короткие радости складывались в невидимый орнамент, который, видел только он. Ему нравилось быть сторонним наблюдателем. Пока по Арбату мчались машины, обрызгивая прохожих у перехода, мчалась и жизнь; даже глубокой ночью одна фара доказывает, что время не остановилось.
Он взял бинокль и направил взгляд на одну из верхних квартир. В тёплом круге настольной лампы сидел мужчина, лицо – как вырезанное из тени. Пальцы касались купюр. Не жадно, а с детским сосредоточением. Деньги исчезли в ящике. Почти сразу вошли двое. Один – ниже и плотнее – уверенно прошёл и сел напротив, развалившись в кресле. Второй – тень при нём, натянутый, молчаливый.
Теперь их было трое: хозяин, плотный и его тень. Хозяин слушал, но не подчинялся. Настороженность была не в позе, а в мелочи: пальцы машинально провели по столешнице, где только что лежали деньги. Жест едва заметный, но ясный. Не страх, не тревога – знание цены происходящему. Ротшильд следил не за словами, а за микро-движениями. Плотный говорил напором. Второй стоял в готовности. Хозяин снаружи был неподвижен, словно маска давно вросла в кожу, только пальцы на бокале выдавали напряжение.
Появился конверт; его убрали плавно, как выученный десятками повторов ритуал. Это не просто сделка – это язык для тех, кто словам не верит. Холодный интерес сменился странным ощущением узнавания. В профиле мужчины – манера держать голову, лёгкий перекос запонок, взгляд мимо собеседника, будто сквозь – что-то резануло память. Так смотрели некоторые из тех, с кем он когда-то работал, когда их учили не выдавать дрожь.
Психика отметила совпадение раньше мысли. Сука, знаю этот взгляд. Видел, как такие улыбаются – и потом ставят подписи, от которых люди не возвращаются.
Нежданная волна тошнотворной тревоги поднялась и ушла, оставив пустую сухость во рту. Язык прилип к нёбу.