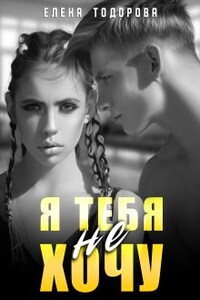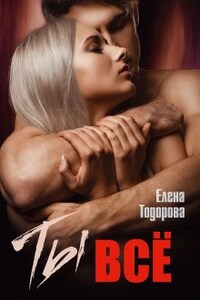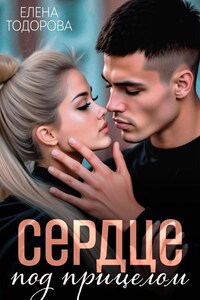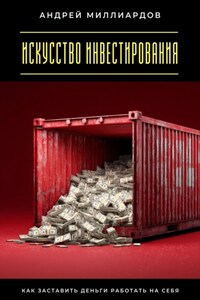Жгу себя вместе с теми, кто
осмеливается на это смотреть.
© Амелия Шмидт
Я встаю с кресла, и отражение,
которое казалось не только чужим, но и мертвым, оживает. Полные
чего-то потустороннего бездонные глаза, алые губы, острый,
решительно выдвинутый подбородок, приподнятые плечи, изящная и
гибкая, будто вылепленная для соблазна, фигура.
Это не я. Это та, кем я вынуждена
быть.
– Амелия, ты готова? – слышу раньше,
чем успеваю осознать, что дверь распахнулась. Звуки из зала –
музыка, аплодисменты, свист, грязные выкрики – влетают попутно.
Бьют, как внезапно накатившая морская волна. Накрывая с головой,
частично оглушают. Все последующие фразы доносятся до меня будто
сквозь толщу воды. – Твой выход, – строго оповещает Мадам.
Я не позволяю себе вздрогнуть.
Стискивая кулаки, впиваюсь в кожу ладоней ногтями до тех пор, пока
от боли не плывет в глазах.
Вдох. Выдох.
Внутренняя пружина безопасно
разжимается. Я восстанавливаю маску.
– Хорошо, Мадам, – произношу, как и
положено, сдержанно.
И сама удивляюсь тому, что почившее
было чувство юмора вытаскивает на поверхность ржущего чертика.
Господи, ну какая еще мадам?
Чушь несусветная!
Одесса – не Прованс, а Роза Львовна
– пусть хоть треснет, не герцогиня. Но так ее величают все девочки
«Empire Noir[1]», а значит, и мне, новоприбывшей танцовщице,
приходится подчиняться.
– Дайте мне еще минуту, – прошу все
так же вежливо.
Голос звучит в разы спокойнее, чем я
себя ощущаю. Почти равнодушно. Хочется верить, что именно поэтому
Роза Львовна остается безучастной. Но, давайте честно, в этом
прогнившем мире люди в принципе все реже удостаивают друг друга
искренней эмпатии.
Уйдя в свои личные переживания, не
сразу замечаю, как в гримерке нарастает напряжение, а потом и вовсе
повисает гробовая тишина.
Шорохи кистей, шелест ткани, стук
каблуков, приглушенные смешки – все это исчезает, будто кто-то
резко выключил звук. Танцовщицы замирают, превращаясь в неподвижные
элементы пафосных декораций. Даже Реня, бросив на меня короткий,
полный тревоги взгляд, поспешно опускает глаза. Тем самым она
доносит главное: послушание здесь важнее дружбы.
Самое время достать черную сторону
своего юмора и, устроив мысленный стендап, облегчить бремя этой
проклятой безысходности. Но на это не хватает сил. Острые шутки,
которые раньше спасали от падения в бездну, теперь рассыпаются в
прах еще до того, как успевают сформироваться. Вместо смеха –
пустота. Вместо сарказма – горькое и приторное молчание.
Ненавистная тишина.
Я даже не оборачиваюсь. Наблюдая за
происходящим через зеркало, внушаю себе, будто все это происходит с
кем-то другим.
Шандарахнув дверью, Мадам скрещивает
руки на груди и угрожающе медленно, будто подавляя готовность
молниеносно атаковать, направляется ко мне. Жгучий взгляд при этом
становится чем-то вроде вонзающегося в плоть жала. Яд медленно
растекается по моей крови, но боли я не ощущаю. Все, что могла
пережить, пережила полгода назад.
– Детка, – бросает Роза Львовна с
улыбкой, которую ни один здравомыслящий человек не счел бы
добродушной. Да и голос звучит как кислота, пожирающая сталь. Что
уж говорить обо мне? Кожу разъедает дрожь. – Когда ты в слезах
умоляла дать тебе эту работу, расписывая, как срочно нужны деньги
на операцию единственной родственницы – мать, тетка, бабушка у тебя
там или кто, – не помню... Да и неважно, – выворачивает наизнанку
один из самых тяжёлых моментов моей жизни. С презрением и
бесчеловечной жестокостью она выжимает из него всю мою боль. – Я
пошла тебе навстречу. Я впихнула тебя в уже сформированный график,
стиснув программу до предела. Я дала тебе аванс, – расставляя
акценты, возводит свою чертову помощь в абсолют. – Запомни раз и
навсегда, милая: никаких дополнительных минуток на твои капризы я
выделять не собираюсь.