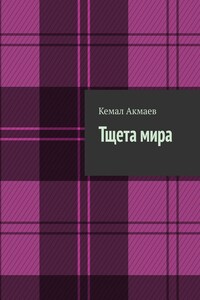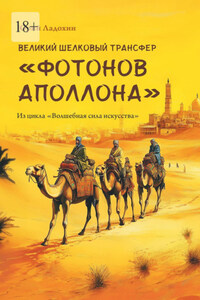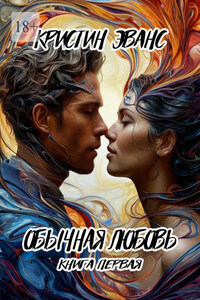Диктатор лежал в постели, бессильно откинувшись на подушках и упёршись застывшим взглядом в потолок. Грудь его тяжко вздымалась от надсадного, хриплого дыхания, сердце билось редкими порывистыми толчками, а мозг будто сдавило стальным раскаленным обручем. Его лихорадило, тело ломило от нестерпимо ноющей боли, на губах выступала пена, но он, напрягаясь из последних сил, отчаянно сопротивлялся холодным объятиям смерти. Он знал, что часы его сочтены, но не желал сдаться без боя, без борьбы, без упорной схватки с последним и самым страшным врагом, безжалостным и неодолимым даже для него. Для того, перед кем трепетали толпы и склоняли головы целые народы. Кто не страшился идти напролом ради высокой цели, и, не дрогнув, слал на казнь десятки людей. Для того, кто был неколебимо тверд в исполнении своего долга и никогда не сникал духом, с честью одолевая все преграды и стяжая себе прочную, никем неоспоримую славу.
Всю свою жизнь он неутомимо и бесстрашно боролся за идею, за правду и справедливость – а теперь умирал, одинокий, неприкаянный и лишенный счастья заглянуть в родные глаза, услышать дорогой сердцу голос и сжать в ладони руку близкого, верного, горячо любимого человека… Нет, не то чтобы он не знал любви, напротив – он любил страстно и неистово, безоглядно и самозабвенно, чувствуя, как походит ярым огнем сердце. Любил так, что временами темнело в глазах. Но, встав однажды перед выбором, он не раздумывая принес любовь в жертву долгу, потому что не мог поступить иначе. Не знал и не видел для себя другого пути. И даже сейчас он ни о чем не жалел, твердо убежденный в верности своего выбора. Он не имел права сворачивать с избранной им стези. И не смог бы, даже если бы и захотел. Это было выше его сил. Сил, которых с каждым годом становилось все меньше – необходимых, бесценных и – увы! – невосполнимых. Сил, что с каждым мгновением неумолимо покидали его, приближая неизбежный конец, мрачный и грозный в своей пугающей неотвратимости. А ведь он столь многого ещё не воплотил, столько внушительных замыслов роилось в его голове, но зловещая гостья беспощадно разметала их, руша и низвергая все, что составляло смысл и суть его существования. Кто же отныне продолжит дело его жизни? Кто сумеет взвалить на себя эту тяжкую ношу, и, не сгибаясь, нести ее, пока хватит мочи? Увы – но он не видел достойных. Да, он всегда тщательно подбирал соратников, приближая людей талантливых и одаренных, но никто из них не был ему ровней – так уж сложилось. А значит, все содеянное им может пойти прахом, и его смелые начинания обернутся ничем. Однако изменить что-либо уже не в его власти. Впервые за долгие годы он не мог ни на что повлиять, и это горько удручало его. Как же тяжело умирать, сознавая, что все созданное тобой настолько хрупко и ненадёжно, что может в один миг рухнуть, пропасть, развеяться от слабого, мимолётного, едва уловимого дуновения…
Сорок лет он верой и правдой служил своему народу, Республике, ее священному стягу, не жалея сил и не считаясь ни с какими жертвами. Из года в год неустанно трудился на благо родины, рьяно отстаивая ее честь, достоинство и свободу. Нещадно теснил и побивал врагов, сурово карая изменников и щедро вознаграждая преданных сынов отчизны. Да, он нередко бывал жесток. Даже слишком жесток. Но цель оправдывала средства, а потому он не задавался вопросами и просто продолжал делать свое дело – как знал, как умел и как того требовала суровая, бесстрастная необходимость. Для многих он был тираном, для других – благодетелем, а для третьих – таинственным, непостижимым Некто, кого следует всемерно почитать и бояться. Но все это ничуть не трогало его, он был чужд мелочного тщеславия и не нуждался в шумном одобрении толпы, чтоб непоколебимо идти вперёд, оставаясь верным себе и своему призванию. И теперь, перебирая в памяти вехи своего долгого, тернистого, полного благородных свершений жизненного пути, он по праву гордился собой, не видя повода в чем-либо себя упрекнуть. Ибо совесть его была чиста. Никогда и ни в чем он не погрешил против Истины. И время ещё подтвердит его правоту. Неоспоримо и несомненно.