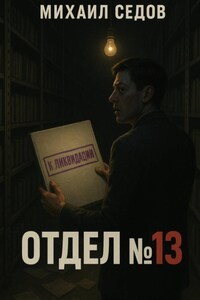Стальной змей в снежной пустыне
Первые часы пути Константин Арсеньевич Воронцов провел в неподвижности, обратив лицо к окну, но глядя не столько на проносившуюся мимо белую муть, сколько вглубь себя, в ту серую, остывшую пустошь, что осталась на месте его прежней жизни. Поезд, этот стальной змей, обитый изнутри палисандром и малиновым бархатом, уносил его прочь от Петрограда, погружая в молочную хмарь январской метели, в которой тонули и прошлое, и будущее, оставляя лишь тягучее, дребезжащее настоящее. Стук колес, этот сухой, бездушный метроном, отмерял не версты, но секунды его собственного, ненужного существования.
Он ехал в Москву разбирать бумаги покойного кузена, дело скучное и почти механическое, приличествующее человеку, вычеркнутому из списков действующих лиц. Бывший судебный следователь по особо важным делам, а ныне частный консультант со скудеющей практикой и еще более скудеющей верой в человечество. Он был подобен хирургическому инструменту тончайшей работы, который после одной сложной, но неудачной операции убрали в бархатный футляр и позабыли на полке. Иногда он еще ощущал в пальцах фантомную дрожь от прикосновения к скальпелю, но лезвия давно затупились о прозу переводов юридических статей с немецкого.
За окном не было ничего. Россия исчезла, растворилась в снежном небытии. Лишь изредка из вьюжной круговерти выплывали темные призраки деревьев, согнувшихся под тяжестью снега, словно скорбящие на бесконечных похоронах, и снова тонули в белизне. Эта белизна была абсолютной, она поглощала звук, цвет и саму мысль о расстоянии. Поезд был не просто средством передвижения; он стал герметичной капсулой, ковчегом, несущим свой разношерстный груз сквозь первозданный хаос. Внутри, в коридорах, пахло дорогим табаком, духами «Коти» и топленым воском, которым проводники натирали медные ручки. Снаружи выла стихия, ледяное дыхание которой просачивалось сквозь малейшие щели в рамах, оседая на стеклах причудливыми морозными папоротниками.
Воронцову стало душно в своем уединении. Апатия, его верная спутница последних лет, начала уступать место беспокойству, похожему на тихий, но назойливый зуд под кожей. Он поднялся, одернул твидовый пиджак английского покроя – единственную роскошь, которую он себе еще позволял, – и вышел в коридор.
Вагон первого класса был длинным и узким, как пенал с драгоценностями. Тускло поблескивала полировка, мягко пружинил под ногами ковер с вытертым восточным узором. Двери купе, все одинаковые, с латунными номерками, скрывали за собой отдельные мирки, каждый со своими тайнами и тревогами. Воронцов двинулся по коридору в сторону вагона-ресторана, и этот короткий путь превратился в проход по галерее живых портретов.
Из приоткрытой двери купе номер пять донесся раскатистый, грубый смех, который, казалось, сотряс саму обшивку вагона. Воронцов мельком заглянул внутрь. На бархатном диване, грузно развалившись, сидел мужчина лет пятидесяти пяти, чье багровое лицо и мясистый затылок красноречиво говорили о безмерном самодовольстве и любви к обильным трапезам. Это был Афанасий Григорьевич Хлудов, промышленник, сколотивший на военных поставках состояние, о размерах которого в Петрограде слагали легенды, одна другой фантастичнее. На его коротком пальце тускло горел массивный перстень-печатка, а жилет из тяжелого шелка едва сходился на необъятном брюхе. Он что-то говорил, вернее, вещал, а напротив него сидел другой господин, элегантный, с холеными руками и хищной, заискивающей улыбкой. Воронцов знал его – Пётр Игнатьевич Забельский, деловой партнер Хлудова, вечно вращавшийся на его орбите, как зависимый спутник.
Рядом с Хлудовым, у окна, сидела молодая женщина, похожая на изящную фарфоровую статуэтку, случайно попавшую в лавку мясника. Анна Павловна, его жена. Ее светлые волосы были уложены в сложную прическу, а тонкий профиль был обращен к заснеженному пейзажу. Она словно пыталась найти в этой белой пустоте спасение от грубой витальности своего супруга. Воронцов на долю секунды поймал ее взгляд в отражении оконного стекла. В ее больших печальных глазах он увидел не просто скуку или несчастье, а нечто иное – холодную, затаившуюся пустоту, как на дне замерзшего колодца.