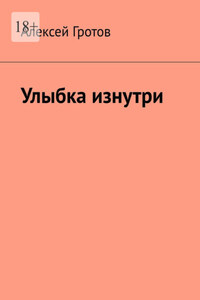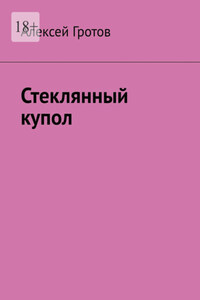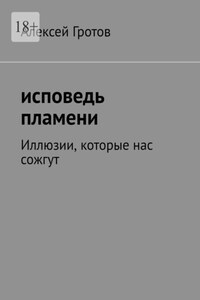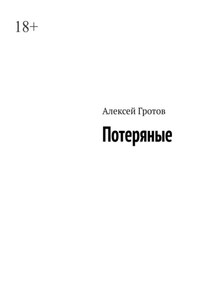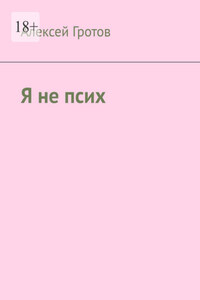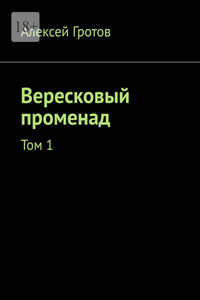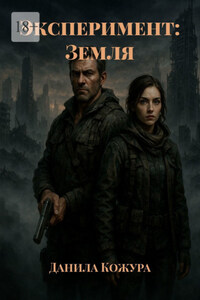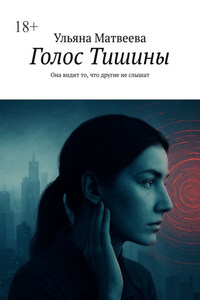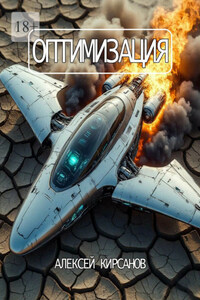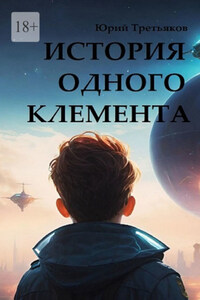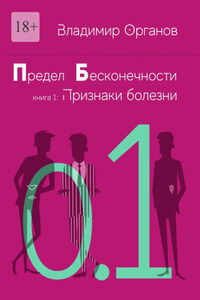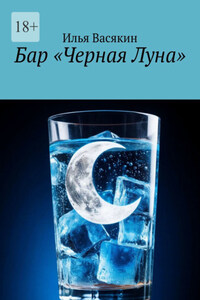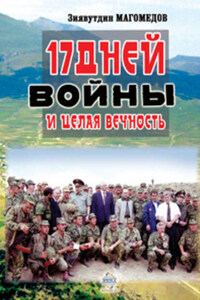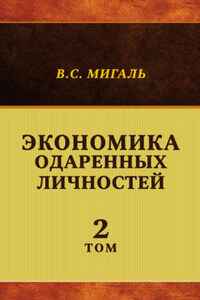Пролог:
Солнечный Берег. Название звучало как обещание. Городок, приютившийся между нежно-бирюзовым заливом и холмами, поросшими соснами, казался вырезанным из открытки к идеальному отпуску. Улицы, вымощенные светлым камнем, расходились лучами от центральной площади с белоснежной ратушей, увенчанной часами, чей бой был размерен и успокоителен. Фасады домов, выкрашенные в пастельные тона – мятный, лавандовый, персиковый – сверкали чистотой. Клумбы взрывались буйством специально подобранных, жизнерадостных цветов: подсолнухи, бархатцы, георгины. Казалось, сама природа здесь договорилась быть только светлой и теплой.
Жизнь текла плавно, предсказуемо, как течение речушки, впадающей в залив. По утрам на улицах царила деловая, но не суетливая активность. Люди шли на работу в местную консервную фабрику (знаменитую своими солнечно-желтыми этикетками), в небольшие мастерские, бутики или кафе с верандами, заставленными столиками под яркими зонтами. В полдень площадь заполнялась людьми, обедавшими на скамейках, обменивавшимися новостями с неизменно доброжелательными улыбками. Вечерами семьи гуляли по набережной, дети смеялись на игровых площадках, окрашенных в кричаще-радостные цвета.
Но была в этой идиллии какая-то… хрупкость. Слишком яркие краски, слишком громкий смех детей, слишком старательные улыбки прохожих, встречавшихся взглядом. Как будто поверх тонкого слоя лака повседневности лежала невидимая пленка напряжения. Люди здесь знали, что нужно быть счастливыми. Это было негласным правилом, почти законом. Грусть, уныние, даже просто задумчивость воспринимались с легким недоумением, как нечто… негигиеничное. Неприличное. Их быстро отгоняли прочь – чашечкой сладкого кофе в «Солнечном Лучике», лишним часом работы в саду, навязчиво-бодрой мелодией из уличных динамиков.
Атмосфера напоминала тепличный воздух – душный, лишенный свежего ветра перемен. Старый мэр, мистер Элвуд, был добродушным конформистом, чья политика сводилась к поддержанию статус-кво: чистые улицы, тихие жители, процветающий (на первый взгляд) бизнес. Он правил долго, и город под его началом замер, словно в летаргическом сне под солнцем. Никто не жаловался громко. Жаловаться было… грустно.
Но тени все же существовали. Они прятались в узких переулках за главными улицами, в чуть потускневшей краске на северных фасадах домов, в мгновенно гаснущих глазах женщины, слишком долго смотревшей на море в пасмурный день. Они жили в тихом шепоте стариков, помнивших времена до «вечного солнца», в украдкой вытираемых слезах подростка, чью собаку сбила машина, в глубоких морщинах усталости на лице доктора Арведа, единственного психиатра в городке, чей кабинет всегда был полупуст – ведь к нему ходили только «не совсем нормальные». Эти тени были слабы, разрозненны, глубоко запрятаны. Их боялись, их стыдились, их отрицали. Грусть была не просто эмоцией; в Солнечном Береге она медленно превращалась в негласное преступление против общественного порядка.
Именно в этот вакуум подлинных чувств, в эту натянутую, как струна, улыбку города, и шагнул он – Аллан Торн.
Его появление на политической сцене было стремительным и оглушительным. Он не был местным. Приехал пару лет назад, купил самый большой дом на холме с видом на город и залив. Богатый, харизматичный, с ослепительной, идеально ровной улыбкой, которая никогда не достигала его холодных, стального цвета глаз. Он говорил на митингах громко, четко, с фанатичной убежденностью. И говорил он о главной проблеме Солнечного Берега.
«Наш город болен!» – гремел его голос, усиленный динамиками, заглушая даже крики чаек. – «Болен тихой, разъедающей язвой! Болен серостью, унынием, черной немочью, которая крадет нашу энергию, наше процветание, наше будущее! Я вижу их – ходячих мертвецов с пустыми глазами, отравляющих нашу солнечную атмосферу своим ядом грусти! Они – паразиты на теле нашего счастливого общества! Они – отклонение от нормы! И это отклонение надо лечить! Жестоко, если надо! Ради всеобщего блага! Ради счастья!»