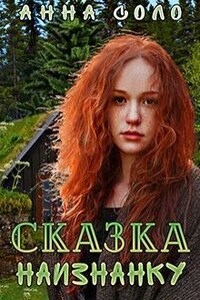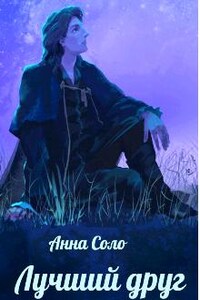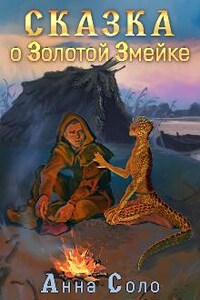Вечер в Ольховце наступает рано. Чуть опустится Око за кромку
леса — куры торопятся на насест, а люди на боковую. Расходится по
домам народ, закрываются лавки, быстро гаснет в окошках свет, и
вскорости в городских проулках остаётся лишь ночная стража.
Нести службу в ночь при княжьем дворе — скучища смертная:
вздремнуть нельзя ни на миг, да только что проку? Тише места не
выдумаешь. Что тут может произойти? Молодой страж томился на своём
посту перед лестницей в терем княжны, с трудом гнал прочь зевоту. В
галерейке было темно и глухо, казалось, даже комары ушли на покой.
Только слышались трели соловья в лесу, да видно было через узенькое
оконце, как в небе неспешно сгущается ночь.
Вдруг сонную тишь потревожили чьи-то шаги: то была твёрдая
поступь решительного и сильного человека. Заслышав её, страж
встрепенулся, приняв подобающий случаю бодрый вид, однако из-за
поворота галереи вышла всего лишь Стина, старая* нянька княжны.
По-своему это была выдающаяся особа: лицом и сложением нянюшка
напоминала хорошо откормленную веприцу, а ростом не уступала даже
самым дюжим из княжьих стрелков, и потому казалось, что,
перемещаясь между покоями, она заполняет собой почти весь проём
галереи.
Строго сверкнув на стажа маленькими глазками, Стина
спросила:
— Что Услада Радогостовна?
Тот торопливо отозвался:
— Выходить не изволила, и у себя никого не принимала.
— Ну то-то же, — буркнула нянька, протискиваясь мимо него к
лестнице.
Уже встав на первую ступень, она обернулась и зло процедила сквозь
зубы:
— Растопырился тут, глупый лошадь… Ни проехать, ни пройти.
В девичьем тереме было темно, лишь слабо теплилась лампадка в
красном углу. Княжна стояла, прильнув к слюдяной оконнице, и
грустно смотрела в сад. Едва заметив её, нянька всплеснула руками,
кинулась к ней, запричитала ласково:
— Усенька, ясочка**, что ж ты у оконца-то стоишь! Сквозняком
протянет, комарики обкусают… Дело ли?
Услада безропотно позволила увлечь себя вглубь светёлки и усадить
на скамеечку. Сняв с девушки богато вышитый плат и повязку*** с
жемчужной поднизью, нянюшка выплела из её косы яркие ленты,
принялась бережно разбирать и расчёсывать гребнем густые каштановые
пряди.
— Не мучь себя пустыми думами, — ворковала она при этом нежно. —
Помолись Лунной Деве да спать ложись. День-то грядёт какой: завтра
кравотынский князь с сыном к нам припожалуют для смотрин. А там и
до свадьбы недалече.
Вздохнув, Услада прошептала едва слышно:
— Боязно мне, нянюшка. Какой он хоть, этот княжич Идрис? Добр ли?
Хорош ли собой?
— Вот завтра и узнаешь. Не журись****, голубка. Нешто батюшка стал
бы тебя за какого татя сговаривать? У кравотынцев дом — полная
чаша, княжество их богато и славно. А что князь Адалет нравом крут,
так то невелика беда. Свёкр дурной что дождь ночной, пошумит и
утихнет. А ты умна будь: знай помалкивай, очи долу опускай, а сама
во всём мужа своего держись, так и станешь в дому полной
хозяйкой.
В ответ княжна только вздохнула ещё горше. Стина нахмурилась,
спросила тревожно:
— Чего вздыхаешь? Уж не простыла ли?
— Нет, я здорова. Только грустно мне очень. И ухокрыл нынче снова
пел*****.
— Ах он окаянец, горлодёр проклятущий! — возмутилась старуха. —
Завёл же твой батюшка себе забаву! Одни хлопоты от энтого зверинцу:
вонь, вопёж да кормам перевод. И тебе, душенька, никакого
покою.
Говоря всё это, нянька уложила волосы своей воспитанницы в
нетугую косу, развязала на девушке тканый поясок, сняла с неё
дорогой, нарядный запон и принялась распускать шнурки на вышитых
нарукавьях. Привычно подчиняясь порядку вечернего переоблачения,
княжна стояла неподвижно.
— Ах, нянюшка, не в том дело. Мне даже нравится, как он поёт. Но
знаешь, и жаль его, бедолагу. Он ведь мучается и тоскует в клетке.
Вот и я так же. Почему всем другим девушкам можно петь, веселиться,
танцевать у костра в Щедрец, выбрать милого себе по сердцу, а мне
нельзя ничего? Даже просто постоять у окошка и то нельзя.