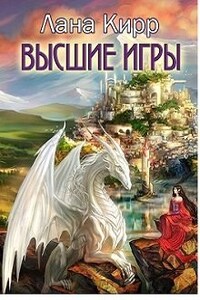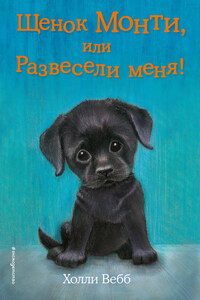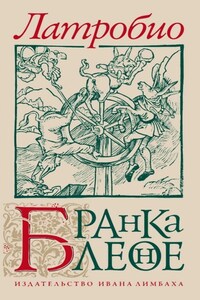Хоронили боярыню Милославу против всяких обычаев – на седьмой
день. И в Акадэмии, хотя и поговаривали, что желают родичи тело ее
забрать на погост, в склеп семейный, да не дозволено сие было
царскою волей.
Отчего?
Не ведаю. Передо мною не докладвался. Да и кто я такая?
На похороны явилася.
Чего ради? Не любопытствия. Куда уж любопытствовать-то…
…плакальщиц наняли. И пусть морщился Михайло Егорович, глядя на
женщин в черных убранствах – на галок суматошных схожие – но гнать
не гнал.
А мужчина какой-то в кафтане цвета давленое вишни, громко и
грозно выговаривал ректору. Дескать, не уберегли дорогую
сродственницу и, значится, ныне повинны выплатить виру, потому как
ни в какое сердце слабое оный мужчина не верит.
Убили Милославу.
Я слышала.
Да и не только я.
Уж больно громогласен был тот мужчина. И кулаками потрясал. И
грозился царю жаловаться… а после вдруг сплюнул под ноги и
сказал:
- Чтоб вы все провалилися со своею Акадэмией…
Не провалилися, даже ежель правду сказал.
…а жена его, боярыня зрелых лет, но красы прежнее не
растративши, никого не обвиняла, но и не плакала, и вовсе не
похоже, чтоб горевала она. Но стояла горделиво, куталась в шалю из
чернобурки, да все головою крутила.
Выглядывала чегой-то.
Или кого-то?
- Это боярыня Красава, - сказал Кирей, меня за локоток
придерживая. – С Милославой они не больно-то ладили… она из
староверов…
- Что?
- Кажется, это так называется? Дед ее, помнится, все горевал,
что, мол, старые заветы отходят… вон, гляди, стоит. Он Милославу на
дух не выносил. Не потому, что плохая, но не дело это – девке из
терема выходить. Кстати, у самой Красавы дар имеется и немалый.
Пожелай она, стала бы магичкой… - Кирей указал на сухого
старика.
Тот, обряженный в простое платье, гляделся бы бедно, если б не
посох, который старик сжимал так, что пальцы побелели. Посох этот
резной, высокий – куда выше старика – был украшен красными и синими
каменьями. А мне вспомнилося, что сказывали про староверов…
кто?
Не ведаю.
Но будто бы живут оне по заветам прежним, свято блюдут слова,
писаные в грамотах, про которые бают, что дадены оне были
самою Божиней. Но же ж разумному человеку ведомо – недосуг Божине
над грамотами сидеть да законы писать.
Тем паче, что порою законы оные зело жестоки.
…его бы воля, он бы Милославу на костер отправил, - Кирей на
старика глядел поверх моей головы, и чуялось мне, что взгляд этот –
недобрый. – Или на кучу муравьиную, медом обмазавши…
Старик повернулся.
И алым полыхнули глаза его.
- Матушка сказывала… - Кирей замолк. – Не важно, Зослава.
Главное, что нечего ждать от него добра…
Лицо старика перекривилось.
Он вытянул руку.
- Порок… - голос его был громок, и люд, до того гомонивший,
смолк. А у меня по спине мурашки побегли. – Порок вокруг…
- Где? – Еська руку поднял и под нее заглянул. – Мерещится вам,
дедушка… ой, мерещится… нема тут порока.
И под левую заглянул.
- И тут нема… Ерема, у тебя есть?
Тот покачал головой.
- А у тебя, Емелька?
Емельян покраснел густо, неудобственно ему было, что на
похоронах Еська скоморошествует.
- И у тебя стало быть, нету… а ты, Лис?
Елисей головой мотнул и попятился, точно желая спрятаться за
широкими плечами Егора.
- Видите, дедушка, нет ни у кого порока…
Старик, против ожиданий, не разозлился. Но поднял посох в правое
руке, а левую вытянул, раскрыл ладонь.
- Вор куражится, - молвил он, глядя на Еську в упор. – Да на
любую шею петля найдется.
И пальцы вытянул, будто в горло желая вцепиться. А Еська вдруг
побледнел, за шею схватился. Но старик рукой тряхнул, отпуская, а
сам к Елисею повернулся.
- Волку не место среди людей…
А дальше я не поняла, что он сделал.
Только Елисей упал вдруг на колени и зашелся кашлем. Он
выгнулся.