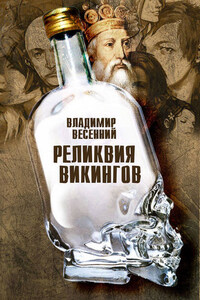Некоторым кажется, что побег – это нечто стремительное, словно поезд, уносящий тебя в ночь под аккомпанемент стука колес и биение собственного сердца, полного предвкушения. Мой побег оказался медленным, туманным и невероятно тихим. Он был с запахом сырой хвои, остывшего камня и тем сладковатым, почти незаметным ароматом увядания, который висел в воздухе Блэквуда, как призрачный шлейф духов давно умершей дамы.
Я стояла на перроне, вцепившись в ручку своего единственного чемодана, и вдыхала этот странный коктейль, чувствуя, как он заполняет мои легкие, просачивается в кровь. Я приехала сюда за свободой. От предсказуемости своей старой жизни, от бесконечных вопросов «кем ты станешь?», от собственного отражения в зеркале, которое, как мне казалось, знало меня куда лучше, чем я сама. Университет, биология, новая среда – вот мой спасательный круг, брошенный в бурное море собственной неуверенности. Но чем глубже я дышала этим воздухом, тем сильнее становилось щемящее, иррациональное чувство, что я не просто сбежала, а вернулась. Вернулась домой, в место, о котором не имела никакой памяти.
Автобус до общежития петлял по узким, вымощенным булыжником улочкам, и Блэквуд медленно раскрывался передо мной, словно старинная книга с пожелтевшими страницами. Это была картинка с открытки, но слегка подпорченная временем и влагой. Фахверковые дома теснились друг к другу, их темные деревянные балки были похожи на скелеты исполинских существ, а белая штукатурка между ними местами осыпалась, обнажая кирпич. Кривые, почти игрушечные витрины булочных и антикварных лавок подмигивали мне тусклым светом сквозь запотевшие стекла. Фонари, уже зажженные в сгущающихся сумерках, отбрасывали на мостовую неясные, расплывчатые ореолы, которые сливались с надвигающимся туманом.
И повсюду, куда ни падал взгляд, был он – лес. Он начинался сразу за последними домами, огромный, молчаливый, величественный. Не просто скопление деревьев, а живой, дышащий массив, стена из темно-зеленых елей и сосен, уходившая ввысь и вдаль, туда, где холмы сливались с низким свинцовым небом. Он не просто окружал город – он обнимал его, держал в крепких, покрытых мхом объятиях, и от этого союза веяло не уютом, а древней, непознанной силой.
Мое общежитие оказалось уродливой бетонной коробкой на самой окраине кампуса, язвой на теле старинного города. Но моя комната, к счастью, смотрела окнами не на другую такую же коробку, а прямо на ту самую стену леса. Я бросила чемодан посреди почти голой комнаты и подошла к окну, прижав ладони к холодному стеклу. Сумерки сгущались, превращая лес в единую темную массу, в бархатный мрак, из которого доносились лишь невнятные звуки – крик невидимой птицы, шелест листьев, подхваченный ветром, который я чувствовала, но не слышала.
И тогда меня накрыло первой волной того странного чувства, что будет преследовать меня все последующие дни – дежавю. Острейшее, почти болезненное. Я не просто смотрела на этот лес – я узнавала его. Каждый изгиб дальних верхушек, темный провал между двумя исполинскими соснами, казавшийся входом в иное измерение, – все это отзывалось глухим эхом в моей памяти, которой не существовало. Сердце сжалось от тоски, тяжелой и сладкой одновременно, словно я оставила там что-то бесконечно важное много лет назад и только сейчас осознала свою потерю. Словно меня там ждали.
Сны пришли ко мне в первую же ночь, и это были не просто картинки за закрытыми веками. Это были полномасштабные вторжения, где я жила, дышала и чувствовала каждой клеткой своего тела.
Я бежала босиком по влажному мху, и он пружинил под ступнями, отдавая в пятки приятную прохладу. Лунный свет, густой, как молоко, проливался сквозь переплетение ветвей, рисуя на земле причудливые серебряные узоры. Воздух был чистым и ледяным, он обжигал легкие ароматом озона, хвои и чего-то дикого. Я словно знала этот запах, я могла бы описать его с закрытыми глазами, но в реальном мире ему не было названия. Я бежала, и ветви цеплялись за мою кожу, словно пытаясь удержать, а сзади, в глубине чащи, слышался топот. Не человеческий – тяжелый, четырехлапый, уверенный. И боль – чужая, огненная боль впивалась когтями в мое плечо, в бок, заставляла спотыкаться и сдерживать крик. Она была настолько реальной, что, просыпаясь, я первым делом ощупывала кожу впотьмах, ожидая найти кровавые раны. А еще был голос. Он не звучал в ушах – он вибрировал где-то в костях, низкий, хриплый, полный невыразимой муки. Он звал меня. Не по имени, а каким-то иным, древним словом, которое я не могла разобрать, но которое заставляло сжиматься все мое существо, как будто отзываясь на некий забытый пароль.