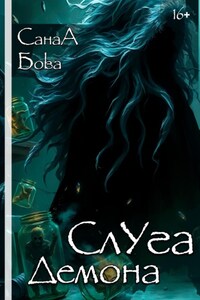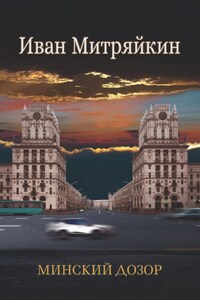Глава 1: «Надпись на поручне»
Бесконечно-серый рассвет, подобный обратной стороне полупрозрачного листа, мягко просачивался сквозь стеклянный купол – единственный свод небес, позволенный городу, и, неся в себе отблеск неприкасаемой безликой зари, ложился на улицы, где даже тени казались заранее одомашненными и причёсанными: прямые, как строки строевого устава, отрезанные от всякой спонтанности, не бросающие вызов архитектуре, не задающие вопросов прохожим. Город Единого Сюжета просыпался не звуком будильников и не гулом моторов, а дрожанием полупрозрачных экранов, встроенных в фасады домов; с первыми фотонами над ними вспыхивали синтакс-потоки – стихотворно-упорядоченные указания, разработанные ИскИн-Центратором:
«Вдох – счёт четыре, выдох – счёт четыре.
Сохраняйте равномерность ритма.
Любите порядок. Порядок любит вас.»
Текст возникал и спадал, уступая место новому, и люди, сотни людей, словно выточенные из талого льда шли по прямым магистралям, читая глазами, но не сердцем. Им было достаточно того, что слова отбитые, как монеты, заранее прошли лицензию эмоций.
Ни один голос не нарушал эту симфонию регламентированного молчания: речи вслух здесь не практиковались уже три поколения. Любая фраза, произнесённая без сертификации, считалась Семантическим Риском IV, почти таким же преступлением, как биотерроризм в ушедшую эпоху. Детей учили шёпотом, а по достижении совершеннолетия шёпот заменялся контурными жестами, подсвеченными интерфейсами их наручных терминалов: микросекундные вспышки смысла, мгновенно архивируемые в Центре Безопасности Языка.
На платформе станции «Кольцо 0» эскалатор поднимал влажный пар от дыхания многотысячной толпы, и этот пар, пойманный узорчатым светом, создавал видимость свечения: будто каждый пассажир горел тихим огнём и тут же гасил себя дисциплиной. Но он выделялся: не ростом, не одеждой, здесь все носили одинаковые графитовые плащи с нательными компенсаторами движения, а чем-то неуловимым, может быть, положением головы, слишком свободным движением плеч, оглядкой, в которой таилась нерасшифрованная мысль. Он нёс под мышкой тонкую бумажную тетрадь – анахронизм, недопустимую роскошь.
В сплетении металлических поручней, отполированных миллиардами прикосновений, он выбрал тот, которого датчики не касались (чип считывал прикосновения на уровне молекулярного тепла, но крайние сегменты иногда задерживали проверку) и, задержав взгляд на двух ближайших камерах, столь же равнодушных, как глаза мумии, достал короткую чёрную ручку-капсулу. Одним движением её колпачок щёлкнул так тихо, что даже собственное сердце, казалось, не услышало. И он написал:
Я пришёл слишком рано.
Буквы плыли и дробились, почерк был странно живым, будто линии колебались от дыхания. Кончик пера оставлял чернила, пахнущие минералом, и эти чернила шли по металлу, как трещина по льду: медленно, но неотвратимо. Он прижал ладонь к сердцу, не чтобы спрятать дрожь, а чтобы удостовериться, что сердце ещё внутри, ещё позволено.
Когда поезд прибыл, беззвучный, как сон, скользящий на магнитной подушке, он не вошёл, остался на пустеющей платформе, наблюдая за людским потоком. Сердце слегка сжалось, потому что именно теперь должна была проявиться реальность, не регулировка, а искренний отклик. И отклик пришёл.
Женщина лет сорока, в зеркально-плоском плаще, задержалась рукой на той же перекладине. Её глаза скользнули вдоль тонких линий надписи, и в следующее мгновение зрачки расширились, будто в них вспыхнули два крошечных заревых кратера. Лицо потеряло стандартную гладкость: то ли воспоминание, то ли боль обожгла её так неожиданно, что она инстинктивно прикрыла рот ладонью – непозволительный человеческий жест. Слёзы – рефлекс, давно не виданный в публичных местах, где даже активация слезовыводящих желез считалась эмоциональным эксцессом, блеснули и покатились по щекам.