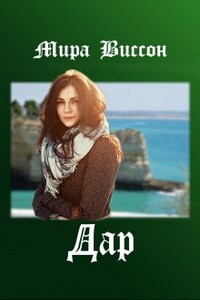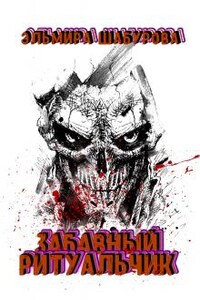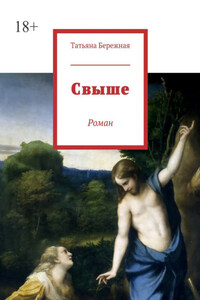Ветер завывал протяжно, словно гудели трубы, оказавшиеся в руках
воскресших покойников. Он врывался в любую щель, сдирал кору с
многовековых стволов как ветхие тряпки, играючи швырял камни,
ледяным кинжалом пронизывал до костей всё живое. Трепещущие под
ветряными порывами ветки дерев будто взывали о помощи. Но прийти
этой помощи было неоткуда. На всю заметённую снегом и скованную
ледяным панцирем округу не находилось и признака людского жилища.
Лишь на предгорье, если сильно вглядеться в кромешную тьму,
виднелись очертания попрятавшихся в горной грудине невысоких
домов.
Нигде не горел свет. Что с него толку в такую бурю? У всякой
свечи или лампы немедля сдувало хрупкое пламя. Ничто не могло
противиться лютой стихии. Оставалось лишь ждать просвета и
молиться, молиться.
— Отче наш, — лопотала Сарика, ещё сильнее прижимая младенца к
опустевшей груди, — Еже еси на небесех…
Ветер ударил ей в лицо краем цветастого платка, которым молодая
женщина обмотала голову. Сколько ни старалась, а проклятый буран
всё-таки выдрал клочок ткани из-под ворота овечьего тулупа и теперь
хлестал по глазам, не щадя. Сарика старалась не плакать. Иначе
слёзы мгновенно застывали ледяной коркой на щеках. Обмороженную
кожу страшно щипало.
— Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое… — упорно
твердила Сарика выученные в церкви слова.
Она не знала их значения. Она многого не понимала в этом мире,
кроме того, что обязана сейчас идти. В стужу, в непогоду, сквозь
раздирающий плоть стылый ветер. Она должна дойти.
Сарика уже не чувствовала ног, утопавших по колено в стегу, и
всё-таки откуда-то находила силы, чтобы сделать новый шаг.
Младенец, завитый в кулёк, давно не шевелился, не кричал, ничем
больше не тревожил. Возможно, уже и не дышал. Мать наказала Сарике
снести дитёнка в лес, пока никто из живущих поблизости соседей не
узнал о том смертном грехе, что совершила дочь кузнеца.
— Это проклятое дитя! Проклятое! — гремела опозоренная женщина,
воздымая сухие дрожащие руки к домашним иконам. — Сатанинское
отродье! Пускай Босорка его приберёт! Уноси! Уноси с глаз моих!
Она усердно молилась нагромождению цветных безыскусных картинок
на кривых дощечках, не обращая внимания на стенания дочери, затыкая
уши каждый раз, когда начинал верещать мерзкий младенец. Она
молилась, чтобы бог смилостивился над ней и вразумил её глупую,
недостойную дочь.
Сарика почти не сопротивлялась гневу матери. Она покорно сносила
побои, угрозы и оскорбления. Её страшила мысль о том, что её дитя
должна забрать Босарка — эта костлявая жуткая ведьма, которая
похищает маленьких детей из колыбели. Но, если бы ей был нужен
ребёнок Сарики, разве не сделала бы она, как рассказывали старухи:
пробралась в дом под покровом ночи, усыпила жителей мелодичным
пением, а потом стащила бы комочек живой розовой плоти с крохотными
ручками и ножками, которые так забавно хрустят под зубами, когда их
кусает гнилой ведьмин рот. Стало быть, Босарке не сдался этот
младенец, как не сдался он никому в доме Сарики.
Сама она не понимала, как относится к ребёнку. Некогда было
понимать, некогда жалеть о содеянном в коротких перерывах между
проклятиями матери и детским плачем. Теперь ребёнок хотя бы
перестал плакать, но легче от этого не стало. Сарика глотнула
колючий холодный воздух. Всё её нутро моментально заледенело, ток
крови замедлился, и ледяная корка стала покрывать всё внутри,
обрекая молодую женщину на жестокую, но хотя бы быструю смерть. Это
могло бы стать тем самым божьим милосердием, о котором так молилась
Сарика.
— Надо идти, — прошептала она потемневшими до цвета грозового
неба губами.
И пошла дальше. Медленно.
Она слышала, что где-то на окраине Боровицы живёт одна старуха
по имени Космина. То ли колдунья, то ли в самом деле настоящая
вештица. Про неё говаривали, что по ночам она оборачивается рыжей
двухвостой лисой и ворует кур и прочую домашнюю животину. Но ещё
Космина лечит и привечает детишек. У неё живёт одна сиротка. А где
одна, там и второй место найдётся.