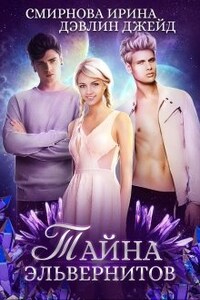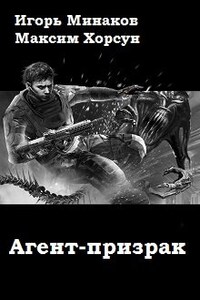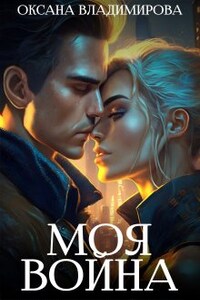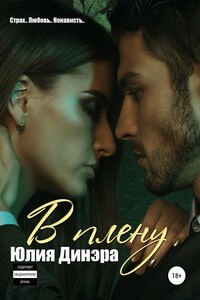Мэйнфорд из конференц-зала вышел бодрым и злым.
Очень бодрым и очень злым.
Злости этой хватило, чтобы добраться до собственного кабинета, в
котором уже поджидал Кохэн.
- Выпей, - он сунул в руки плошку с какой-то вонючей
гадостью. И Мэйнфорд выпил: не было у него сил сопротивляться,
напротив, появилась вялая надежда, что эта самая гадость успокоит
раскаленные нервы, а то и вовсе погрузит Мэйнфорда в беспробудный
сон недельки этак на три-четыре. И тем самым избавит от
сомнительной радости объясняться с начальством…
…с Гарретом…
…надо бы позвонить, предупредить…
…братец придет в ярость… но с другой стороны, разве
Мэйнфорд виноват, что семья не думает, кому продает акции?
Отпускало.
Травы ли были тому виной, - Мэйнфорд в очередной раз дал себе
слово разобраться, наконец, что именно Кохэн выращивает в
своей маленькой оранжерее – или же просто переутомление сказалось,
но все вдруг стало неважным.
Акции… Вельма… стрельба… всегда стреляли… гангстером больше,
гангстером меньше – город сожрет всех, и самого Мэйнфорда в том
числе. Рано или поздно доберется…
- Садись, - Кохэн толкнул в кресло. – И расслабься… тебе поспать
нужно…
- Девчонка…
- Отвлек от работы, как и было велено…
Показалось, Кохэн недобро усмехнулся.
- Угрожал?
- Обижаешь. Когда это я угрожал женщинам? Предупредил… она
умненькая, поймет. Надеюсь, что поймет… чтица-то хорошая…
заглянула, представляешь? Я не стал закрываться, а она
заглянула…
- И не сбежала?
- Даже не стошнило. Откуда она взялась, Мэйни?
- Если интересно, возьми личное дело… - теплые ладони масеуалле
сдавили виски. И значит, спать пора… но нельзя… не сейчас… то
старое желание – это трусость. А на деле Мэйнфорд не может
позволить себе сон. Слишком много всего… слишком мало его
самого…
- Возьму, - послушно отозвался Кохэн, и голос его доносился
издалека. – Ты знаешь, что она тебя ненавидит?
- Уже?
- Давно… у сов хорошая память и острые когти…
- Прекрати… я не в настроении вникать в твою зоологию…
- Не вникай… поспи…
- Нельзя.
- Можно, - возразил Кохэн. – И нужно. Ты же сам понимаешь, что
вот-вот свалишься. Часик подремлешь… не сопротивляйся… хочешь
услышать море? Помнишь, ты меня отвез…
Мэйнфорд помнил.
Тогда у него, рядового малефика, было право на отпуск. И
странное для посторонних желание провести этот отпуск не с семьей,
но с мальчишкой-масеуалле, который только-только научился говорить
на нормальном языке.
Море Мэйнфорд всегда любил.
Успокаивало.
И голос его заглушал иные, тогда еще слабые, позволявшие
надеяться, что рождены они не городом, но собственным воображением
Мэйнфорда. Так утверждала мать, отворачиваясь, чтобы скрыть
разочарование – старший отпрыск древнего рода должен был быть
идеален, а он слышит голоса. Какой конфуз! Не приведите Боги,
узнает кто… и сохранения тайны ради – а в неполноценности Мэйнфорда
она усматривала некий упрек свыше – она молчала.
Даже когда голоса стали невыносимы.
Даже когда…
Она жаловалась семейному врачу на мигрени и подсыпала в молоко
снотворное. От снотворного становилось лишь хуже, но мать не желала
слышать…
…а если бы Мэйнфорда сочли безумцем?
…разве ты не понимаешь, дорогой, какой ущерб это нанесет семье?
Твоему брату? Нам с отцом? – голос матери был слышен так, словно бы
она стояла за спиной Мэйнфорда. Всегда-то она избегала прямых
взглядов. Неужели чувствовала свою вину? Или просто ей было
неприятно видеть его, вечное напоминание собственной ее
дефективности?
В роду мужа безумцев не было.
…просто потерпи, - матушка всегда говорила мягко, ласково даже,
и было время, лет до восьми, когда Мэйнфорд обманывался этой
мягкостью, принимая ее за любовь. – И все пройдет… я привезла
лекарство… очень хорошее лекарство…