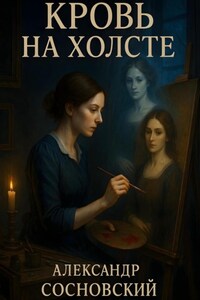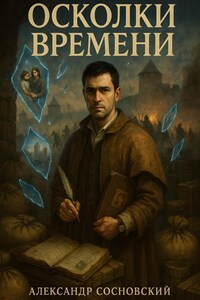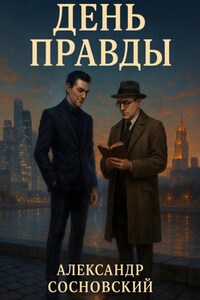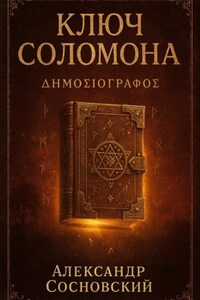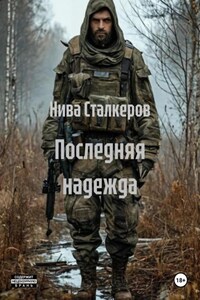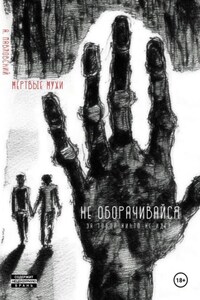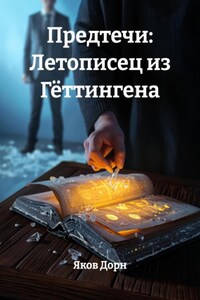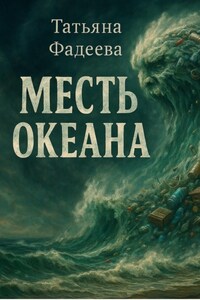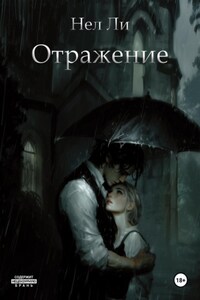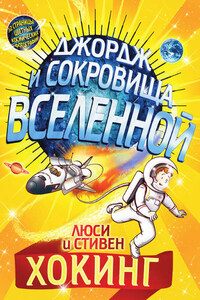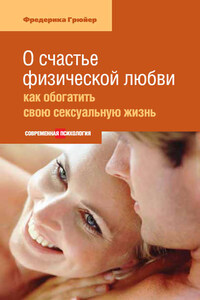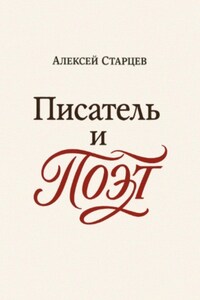Дождь барабанил по стеклам мастерской с монотонным упрямством. Капли собирались в причудливые узоры, сползали вниз извилистыми дорожками, словно торопились куда-то. Татьяна Сергеевна Минина отложила тонкую беличью кисть и отступила на шаг от холста. Спина затекла от долгого сидения в одной позе, а в висках пульсировала тупая боль. Семь часов непрерывной работы без единого перерыва – даже для нее это было чересчур.
Реставрация старинного натюрморта подходила к концу. Еще несколько штрихов, пара слоев лака, и полотно восемнадцатого века снова заиграет теми красками, которые задумал автор: яркие фрукты в серебряной вазе, играющий на металлической поверхности свет, загадочные тени, скрывающиеся в складках темно-бордовой драпировки.
Мастерская тонула в сумраке – за окном день клонился к вечеру, а Татьяна не включала верхний свет, довольствуясь лишь направленной лампой над рабочим столом. В этом полумраке отреставрированные фрукты казались особенно сочными, почти живыми, а тени – глубокими и таинственными. Если долго смотреть на них, начинало казаться, что они движутся, дышат, живут своей, скрытой от поверхностного взгляда жизнью.
Татьяна потерла усталые глаза. В последнее время она все чаще теряла счет времени, погружаясь в работу целиком, без остатка. Растворялась в чужих картинах, в чужих историях, запечатленных на холсте. Так было проще – не думать, не вспоминать, не чувствовать эту пустоту внутри, которая появилась шесть месяцев назад и с тех пор только разрасталась, как раковая опухоль, поглощая все живое, что еще оставалось в ее душе.
Маленькие старинные часы на стене пробили шесть вечера. Их звук вернул Татьяну в реальность. Нужно было закончить на сегодня, убрать инструменты, смыть с рук запах скипидара и красок, может быть, даже заставить себя приготовить что-нибудь на ужин, хотя аппетита не было уже давно.
Звонок мобильного разрезал тишину мастерской, заставив Татьяну вздрогнуть. Она посмотрела на экран – номер не определился. Первым порывом было не отвечать. В последнее время она избегала разговоров, особенно с незнакомцами. Но профессиональная привычка взяла верх – мало ли, потенциальный клиент.
– Татьяна Сергеевна Минина? – мужской голос в трубке звучал глубоко и немного отстраненно, с едва заметной хрипотцой.
– Да, это я, – она машинально выпрямила спину, словно собеседник мог ее видеть.
– Меня зовут Андрей Бялковский. Я хотел бы предложить вам работу. – В его голосе не было ни просительных ноток, ни заискивания, только спокойная уверенность человека, привыкшего к тому, что его предложения принимают. – Речь идет о реставрации коллекции картин конца XIX века. Мой предок, Николай Бялковский, был… скажем так, неординарным художником.
Татьяна напряглась. Имя Николая Бялковского не было широко известно в кругах искусствоведов, но те немногие, кто о нем слышал, говорили шепотом, с опаской оглядываясь, словно само упоминание этого имени могло навлечь беду. Его работы – немногие из сохранившихся – отличались странной, гипнотической манерой письма и производили на зрителей необычное впечатление. Некоторые утверждали, что после длительного созерцания его картин начинали видеть странные сны. Другие говорили, что физически ощущали чужое присутствие, стоя перед его полотнами.
Большинство работ Бялковского исчезло при загадочных обстоятельствах или было уничтожено самими владельцами. По слухам, люди, обладавшие его картинами, слишком часто сталкивались с необъяснимыми явлениями и предпочитали избавляться от полотен.
– Я знакома с некоторыми работами Бялковского, – осторожно ответила она, вспоминая единственный портрет, который видела в запасниках Музея изобразительных искусств. Хранители предпочитали не выставлять его в основной экспозиции, ссылаясь на «неподходящую тематику», хотя на первый взгляд в картине не было ничего предосудительного – обычный женский портрет, выполненный в сдержанной манере. – Но насколько мне известно, сохранилось всего несколько его полотен.