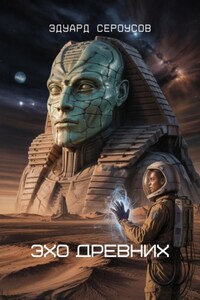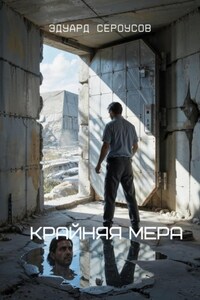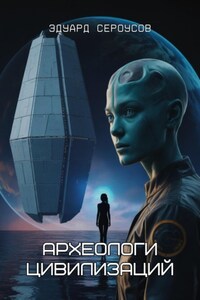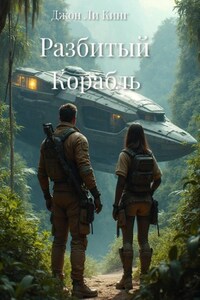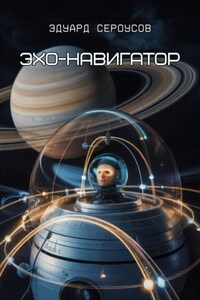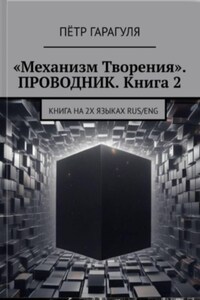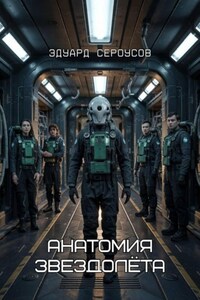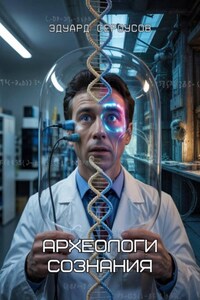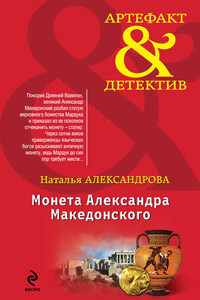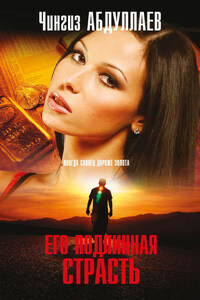В залах Императорского научного общества Санкт-Петербурга в этот апрельский день 2032 года было необычно многолюдно. Конференция по нейрофизиологии привлекла не только специалистов, но и представителей смежных дисциплин, словно в воздухе витало предчувствие чего-то значительного. Высокие потолки с лепниной, массивные хрустальные люстры и старинные портреты учёных создавали удивительный контраст с ультрасовременной проекционной системой и голографическими дисплеями, установленными для докладчиков.
Александр Николаевич Воронин стоял у окна, наблюдая за проезжающими по набережной Невы автомобилями. Его худощавая фигура, преждевременно поседевшие виски и напряжённый взгляд серых глаз выдавали в нём человека, всецело поглощённого своими мыслями, оторванного от суеты внешнего мира. Он был одет в строгий тёмно-синий костюм, который, казалось, слишком свободно сидел на его худощавой фигуре, подчёркивая некоторую небрежность учёного к своему внешнему виду.
– Александр Николаевич, через пять минут ваш доклад.
Голос ассистента вывел его из задумчивости. Воронин кивнул, не оборачиваясь. В стекле отразилось его острое, угловатое лицо с выступающими скулами. Он был готов – и одновременно не готов. Десять лет исследований, бессонных ночей, споров с коллегами и самим собой привели к этому моменту. Сегодня он представит научному сообществу свою теорию технологически опосредованной эмпатии. Теорию, которая, как он верил, могла изменить саму природу человеческих отношений.
– Николаич, не волнуйся так, – раздался за спиной знакомый голос с лёгкой хрипотцой. – У тебя всё получится.
Воронин обернулся. Валентин Игоревич Крылов – его давний коллега, психолог с военной выправкой и мёртвой хваткой исследователя, смотрел на него с доброжелательной уверенностью. Его плотная фигура, широкие плечи и властный взгляд контрастировали с худощавостью и сдержанностью Воронина. В отличие от большинства учёных, Крылов предпочитал дорогие костюмы и тщательно следил за своей внешностью.
– Я не волнуюсь, Валентин, – ответил Воронин. – Просто представляю реакцию аудитории. Многие сочтут идею фантастической.
– Пусть сочтут. А потом мы её докажем, – Крылов по-дружески похлопал его по плечу. – Нобелевка тебе обеспечена.
Воронин поморщился. Его интересовали не премии, а сама возможность преодолеть фундаментальную разобщённость человеческого опыта. Он хотел создать мост между сознаниями, позволяющий людям буквально ощущать чувства друг друга. Эмпатия в её чистом, непосредственном виде – вот что занимало его ум.
– Доктор Воронин, мы готовы начать, – снова раздался голос ассистента.
Зал постепенно заполнялся. В первом ряду Воронин заметил своего научного руководителя, профессора Михаила Давидовича Лейбина, 67-летнего физиолога с мировым именем. Несмотря на возраст, профессор сохранял ясность ума и научную проницательность. Его морщинистое лицо с густой седой бородой выражало привычный скептицизм, но глаза смотрели тепло и ободряюще. Он кивнул Воронину, словно говоря: «Я здесь, я с тобой».
Воронин глубоко вздохнул и направился к трибуне. Зал затих. Более трёхсот пар глаз сосредоточились на нём. Он включил презентацию, и над трибуной возникла объёмная голограмма человеческого мозга с выделенными височными долями.
– Уважаемые коллеги, – начал он ровным, размеренным голосом. – Сегодня я хотел бы представить вам теорию, которая, возможно, изменит наше понимание человеческого сознания и взаимодействия. Я назвал её «теорией технологически опосредованной эмпатии».
Он сделал паузу, окидывая взглядом аудиторию. Некоторые лица выражали заинтересованность, другие – скептицизм, третьи – просто вежливое внимание.