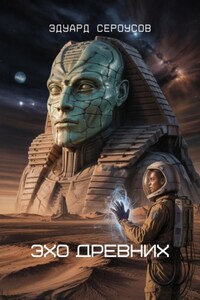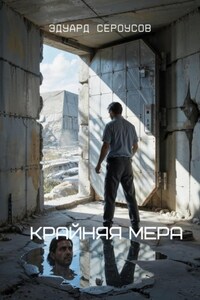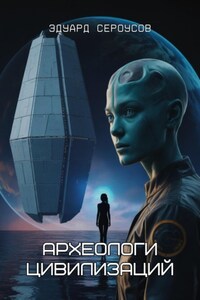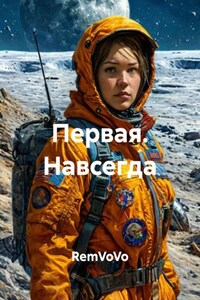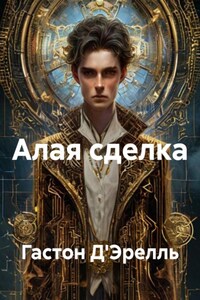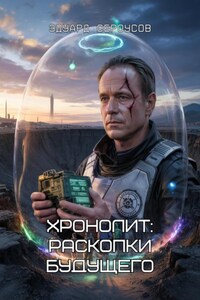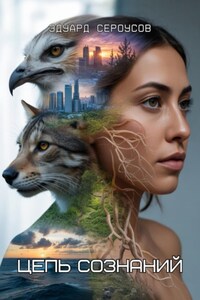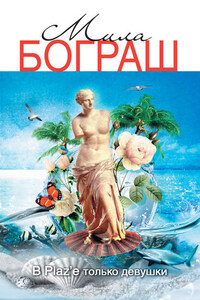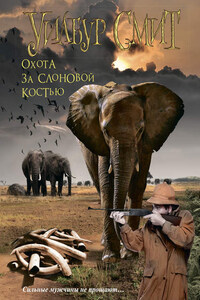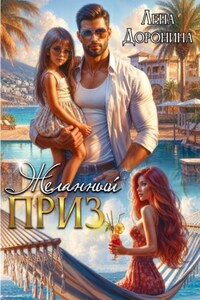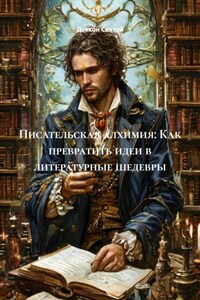Часть 1: Открытие
Глава 1: Аномальные паттерны
Мягкий утренний дождь стекал по густому пологу олимпийского дождевого леса, превращаясь в тысячи маленьких потоков, исчезающих в изумрудном ковре мхов. Доктор Елена Волкова стояла неподвижно, как статуя, уже почти час, невзирая на влагу, пропитавшую её куртку. Только руки, затянутые в тонкие латексные перчатки, осторожно манипулировали крошечным электродом, погружённым в замысловатое сплетение грибных гифов у основания величественной пихты Дугласа.
Её дыхание превратилось в еле заметный ритм, сливающийся с пульсацией леса. Дождь, капающий на лист. Жук, ползущий по стволу. Корни, медленно тянущиеся через почву. Всё это составляло симфонию жизни, которую Елена научилась слышать после пяти лет полевой работы в этом заповеднике.
Электрод был подключён к портативному анализатору, закреплённому на её поясе. Маленький экран показывал волнообразные сигналы, типичные для миксомицетов – удивительных организмов на границе между грибами и амёбами. Но сегодня что-то было не так.
– Опять, – прошептала она в записывающее устройство, прикреплённое к воротнику. – Третья аномальная последовательность за час. Паттерн повторяется с вариациями, что исключает случайный сбой оборудования.
Ещё три месяца назад всё было нормально. Олимпийский национальный парк представлял собой идеальный образец умеренного дождевого леса, экосистему, существовавшую в относительном равновесии тысячи лет. Но затем появился он – Ophiocordyceps infestus, агрессивный инвазивный гриб, предположительно завезённый с сельскохозяйственной продукцией из Юго-Восточной Азии. Обычно такие виды нарушали баланс экосистемы, вытесняя местные виды и уничтожая биоразнообразие.
Но здесь происходило что-то другое. Вместо хаоса экосистема демонстрировала… адаптацию. Организованную, почти разумную реакцию.
– Гейб! – позвала Елена, не отрывая глаз от показаний прибора. – Ты видишь тот же паттерн на западном участке?
Из-за огромного папоротника появился высокий мужчина африканского происхождения с аналогичным оборудованием.
– Да, подтверждаю, – Габриэль Окафор говорил сдержанно, с лёгким нигерийским акцентом. – Но у меня есть нечто большее. Твои датчики на южном узле тоже активировались. Мы видим синхронизированную активность в трёх разных точках, разделённых более чем километром.
Елена наконец оторвала взгляд от анализатора.
– Это невозможно. Даже самые большие микоризные сети не демонстрируют такой масштаб синхронизации.
Гейб пожал плечами.
– Возможно, наши приборы неисправны.
– Все сразу? С одинаковым паттерном ошибки?
Елена осторожно извлекла электрод и упаковала образец гриба в стерильный контейнер. Затем достала планшет из водонепроницаемого кармана рюкзака и начала сверять данные со всех датчиков, расставленных по лесу.
То, что она увидела, заставило её сердце забиться чаще. Двадцать четыре датчика, распределённые по территории в три квадратных километра, показывали почти идентичные паттерны электрической активности с разницей в миллисекунды.
– Похоже на… – она запнулась, не решаясь произнести это вслух.
– На что? – Гейб подошёл ближе, вглядываясь в экран.
– На нейронную активность, – наконец сказала Елена. – Но масштаб… это как если бы весь лес был единым организмом. Единым мозгом.
Дождь усилился, но ни один из учёных этого не замечал, поглощённый данными на экране.
– Это не просто микоризная сеть, – пробормотала Елена. – Это что-то гораздо более сложное.
Она быстро пролистала записи за последние недели. Картина становилась всё более очевидной – с момента появления инвазивного гриба электрическая активность леса начала меняться. Но не хаотично, как при обычном вторжении чужеродного вида, а структурировано, словно лес… адаптировался.