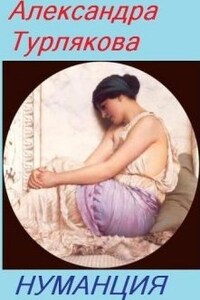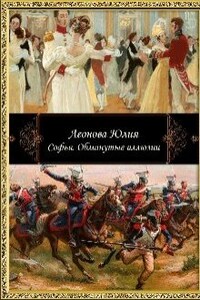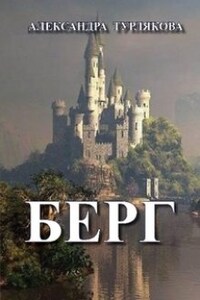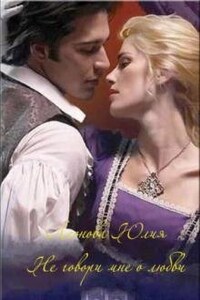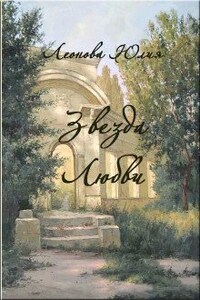1885 год, Российская империя, Санкт‑Петербург
Я никогда не думала, что голова
может болеть даже во сне. Помню, после первого допроса мне стало
дурно, повело в сторону и… должно быть, я все‑таки упала, потеряв
сознание. Впрочем, боль была несильной, тупой – с нею я давно
сумела свыкнуться. Меня разбудило другое. Кто‑то настойчиво отбирал
у меня то, на что я положила голову. Я слабо отмахнулась – не
помогло. Тогда пришлось открыть глаза.
Надо мною склонилось красное и
опухшее, как это бывает у сильно пьющих людей, лицо незнакомой
женщины. Ну, наверное, женщины, поскольку губы были ярко накрашены
– незнакомка пыталась выдернуть из‑под моей головы мою же меховую
накидку. Бархатную, отороченную соболем накидку, которую совсем еще
недавно Женя заботливо надевал на мои плечи. Я не успела ни
подумать, ни испугаться – резко выбросила руку, перехватив ее
запястье. И сжала, добившись, чтобы она отпустила мех. Отыскала
заплывшие глаза:
– Пошла вон, – прозвучало гораздо
грубее, чем я рассчитывала.
– Вякать будешь, подстилка
фраерская? – осклабилась в ответ девка.
Я едва успела отшатнуться, чтобы
желтые ногти не разодрали мне щеку. Дернула захваченную кисть,
провернув в суставе. Надавила на локоть, выворачивая руку так, что
девка взвыла. Точь‑в‑точь как обещал Женя.
Правда, он не предупредил, какой
водопад obscénitésen russe[1] обрушится на меня вместе с воем. Я‑то
прежде думала, что это наша мадам в Смольном сквернословит
неподобающим женщине образом. И только тогда растерялась.
– Фимка, кончай голосить, – шикнула
откуда‑то вторая, которую я еще не видела.
– А чего она дерется! – заскулила
Фимка. Но когда я чуть ослабила хватку, с готовностью метнулась к
стене, растирая запястье. – Сучка бешеная. Я те покажу еще…
– Умолкни, тебе сказано! – Вторая
уже повысила голос, и Фимка обиженно заткнулась.
А я только теперь осмотрелась. Это
была тюремная камера – никогда не бывала в них прежде, но в месте
своего пребывания не сомневалась. Узкая, с обшарпанными каменными
стенами и тусклым зарешеченным окном под самым потолком. Кроме
меня, еще три женщины, все как одна пропитые и хмуро на меня
глядящие. Только теперь я испугалась по‑настоящему. Захотелось
сжаться в комок, забиться в самый дальний угол и расплакаться от
жалости к себе. Но я сидела не шелохнувшись, потому как понимала –
стоит лишь показать им слабину…
И меня мутило все сильнее с каждой
минутой, а шум в голове и не думал угасать.
Одна из женщин – та, что приструнила
Фимку, – подсела ближе, с жадностью меня рассматривая. Она была
пожилой, с грязными неприбранными волосами и колючим,
проницательным взглядом. Я не верила, что заведу здесь подруг, так
что мне хотелось и от нее держаться подальше.
– Тебя за что сюда, красавица? –
спросила наконец она. И сама же предположила: – Говорят, девку
какую‑то пристрелила за то, что она с супружником твоим куролесила.
Правда аль нет?
Я метнула на нее резкий взгляд:
– Кто так говорит?
– Да так… люди. – Она улыбнулась,
глядя на меня еще въедливей.
А я еще более убедилась, что
доверять в подобном месте нельзя никому. Тем же, кто в друзья
набивается, – прежде всего. Ответила я ей, впрочем, вполне
дружелюбно:
– Лгут те люди, бабушка. Ошибка это.
Обознались.
Она цокнула языком и
развеселилась:
– Хых, у нас все так говорят.
Звать‑то тебя как?
– Положим, что Марусей, – ответила
я, давая понять, что мне все равно, поверит она или нет.
Старуха ухмыльнулась. Похоже было,
что имя мое она прекрасно знала и так.
– Гордая ты шибко, – сказала она,
буравя меня взглядом. – И норовистая. Кича[2] таких не любит…
Маруся.
Но хоть отцепилась, и то слава
богу.
А я еще раз хмуро оглядела камеру.
Разговор наш, безусловно, слышали, и я подумала, что, может, и
неплохо, ежели эти благородные девы теперь знают, что я вполне
способна кого‑то застрелить.