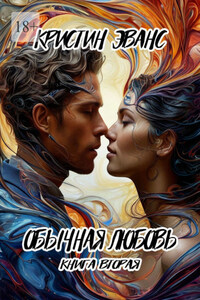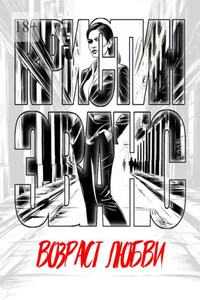Она не помнила, как оказалась на улице. Не помнила, как прошла через блестящий, холодный холл, как двери лифта с тихим шипением раздвинулись перед ней, пропустили и сомкнулись за ее спиной, словно похоронив ту женщину, которая всего пятнадцать минут назад поднималась наверх – с надеждой, с предвкушением, с коробкой дурацких, но таких дорогих его сердцу круассанов.
В ушах стоял оглушительный звон. Не звук, а его полная, абсолютная противоположность. Вакуум, в который ушли все шумы мира: гул машин, отдаленные голоса, шелест ветра в кронах деревьев. Осталась только эта пронзительная, свистящая тишина, будто после мощного взрыва, когда слух еще не успел опомниться и вернуться. Но возвращаться было не к чему. Ее мир, только что обретший цвет, звук и объем, снова схлопнулся. Стал плоским, черно-белым и беззвучным.
Она шла, не чувствуя под собой асфальта. Ноги были ватными, непослушными, двигались сами по себе, повинуясь древнему, животному инстинкту – бежать. Бежать от боли, от унижения, от того образа, что был выжжен на сетчатке ее глаз раскаленным железом. Руслан у окна. Его прямая, уверенная спина. И Елена. Елена, которая не просто стояла рядом. Она была в его личном пространстве, в той самой интимной зоне, куда Ксения сама входила с замирающим от счастья и трепета сердцем. Длинные, ухоженные пальцы с безупречным маникюром поправляли узел его галстука. Движение было плавным, привычным, почти собственническим. И на его лице не было ни удивления, ни сопротивления. Была… расслабленность. Та самая, с которой он позволял поправлять себе воротник Ксении, но только сейчас, в этом жесте, читалось что-то гораздо большее. Что-то, что годами входило в привычку, врастало в ежедневный ритуал.
А потом был звук. Глухой, коробочный удар о полированный бетонный пол. Она посмотрела вниз и увидела рассыпавшиеся по стороне, маслянистые круассаны. Они лежали там, на полу, у ее ног, жалкие и нелепые, как и ее вера в сказку. И этот звук, этот негромкий хруст сломанного теста, наконец, прорвал плотину. Слез не было. Была только ледяная пустота, сковывающая изнутри.
В руках, сжатых в белых от напряжения суставах, отчаянно дребезжали ключи. Она не понимала, откуда они взялись. Потом смутно вспомнила – автоматическое движение, привычка: проверить, есть ли ключи в кармане, перед тем как выйти из машины. Ее машины. Старенькой, потрепанной, пахнущей детскими крошками и влажной собачьей шерстью, хотя собаки у них не было уже три года. Контраст между этим запахом и ароматом кожи и парфюма в салоне его автомобиля был настолько разительным, что ее на секунду стошнило. Просто сухой, болезненной спазм сжал горло. Она остановилась, оперлась ладонью о шершавый ствол какого-то дерева, пытаясь отдышаться.
И тут тишину в ее ушах, эту звенящую, невыносимую пустоту, разорвала вибрация. Сначала одна. Настойчивая, ползучая, как жук под кожей. Потом вторая. Третья. Телефон в кармане куртки вздрагивал, упрямо и безжалостно возвращая ее к реальности, которую она так отчаянно пыталась оставить позади, в том стеклянном гробу его офиса.
Она не смотрела на экран. Не нужно было. Она знала. Знала эти одиннадцать цифр, которые за последние месяцы стали для нее не просто номером, а проводником в другую жизнь. Каждый звонок раньше заставлял ее сердце биться чаще, по губам разбегалась глупая, счастливая улыбка. Сейчас же каждый вибрационный импульс отзывался в ней новой волной боли. Он звонил. Наверное, увидел ее. Увидел разбитую коробку, рассыпанные круассаны. Понял, что она все видела. И теперь он пытался что-то объяснить, найти слова, которые, как ему, наверное, казалось, смогут все исправить.