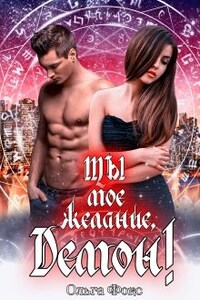Издевательски яркий лучик солнца скользнул сквозь защищённое
заклинанием стекло и нагло упёрся в преподавательский стол,
периодами срываясь на глаза. Блики и всполохи окрасили всю
аудиторию невообразимо жёлтым калейдоскопом, от которого хотелось
зажмуриться и срочно бежать куда-то, да вот только – куда?
Скрипели перья – у особо правильных и старомодных студентов, -
кто-то писал карандашами. Несколько, из особо богатых семей, даже
пользовались чем-то безымянным, но крайне удобным, именовали его
сами, впрочем, удивительным словом "ручка" – и у них получалось на
удивление быстрее. Впрочем, говаривали, подобное изобретение было
под силу одним лишь волшебникам, и хотя все они нынче находились на
территории магического университета, отчего-то не спешили
использовать полученные при учёбе умения по-настоящему, только
косились на чужие достижения и недовольно, раздражённо вздыхали –
мало ли, у кого-то получится лучше, кто-то что-то отберёт.
Под потолком нагло скрипели часы – удивительное сочетание
шестерёнок и какой-то чудной одной-единственной стрелки. При виде
солнечного луча стрелка как-то странным образом оживилась и
завертелась, словно сумасшедшая. Не прошло и мгновения, как часы
заколотили, словно на тревогу, оглашая о времени завершения
экзамена.
Студенты даже не пошевелились. Двоечники нагло пытались что-то
писать, те, кто хоть что-то знал, лихорадочно строчили в своих
свитках. Всё-таки, курс хоть и не выпускной, третий, но по этой
работе преподаватели могли определить, кому отдают предпочтение при
выборе себе подчинённых на бакалаврскую работу.
Один из преподавателей, высокий худой маг в странных очках – их
стёкла сверкали на солнце так, словно были сотворены из драгоценных
камней, - даже не содрогнулся, когда часы заколотили громче. Он
только склонился ниже над бумагами, разложенными перед ним на
громадном экзаменационном столе.
Несколько листов уже даже успело прикрыть билеты, что-то торчало
из журнала успеваемости. Аспирантка, то и дело встряхивающая
головой, чтобы длинные пряди тёмных волос не падали на глаза и не
мешали вчитываться в текст, поспешно чертила что-то на бумаге
карандашом, оставляя поспешные пометки. Перья и чернильница,
валявшееся повсюду, металлическое изобретение, то самое, для
богатых, в самом непотрёбном положении – не в футляре, как
полагалось, не перевязанное лентой, а валяющееся в стороне, без
чернил, ещё и, кажется, готовое вот-вот свалиться со стола, - всё
это не вызывало у неё совершенно никакого интереса.
Преподаватель то и дело пытался вырвать у неё из рук карандаш и
внести в заклинание, тщательно выводимое на столе, какие-то
изменения. Она спорила, трудясь над новой, невероятной формулой,
что-то доказывалась, срываясь с шёпота на достаточно громкое
шипение. Казалось, о тишине они не заботились и вовсе, о том, чтобы
студенты не вздумали списывать – тем более.
Мужчина то и дело потирал подбородок, поправлял свои драгоценные
очки с магическим виденьем и пытался всмотреться в формулу. Его
долговязая и невообразимо худая фигура казалась подобной крюку,
когда он вскакивал и нагибался над столом; когда выравнивался,
студенты с хохотом обычно величали его "палкой", но сегодня, в день
экзамена, всем им не было никакого дела до внешности одного из
будущих наставников.
Второго преподавателя часы не трогали и вовсе. Не интересовала
его и наука – он раздражённо смотрел в потолок, словно кто-то его
заставлял здесь находиться и маяться с молодыми магами, и
периодически насвистывал себе что-то под нос. Ноги он закинул на
стол, не заботясь о том, чтобы вытереть ботинки и привести их в
надлежащее состояние, руки сложил на груди, а к аспирантке и её
научному руководителю с оценивающим взглядом поворачивался,
кажется, исключительно ради того, чтобы в очередной раз отметить –
мысленно, правда, - что таким симпатичным девушкам в университете
за наукой делать нечего. А надо вырываться в массы и сменять своих
наставников.