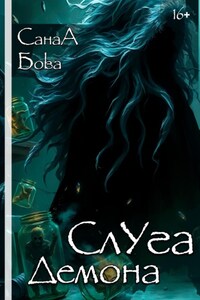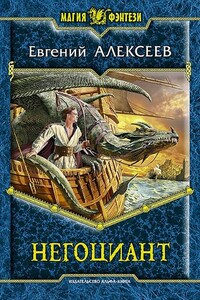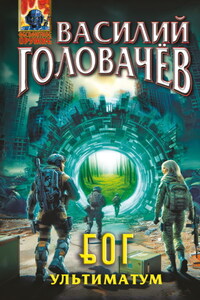Кёнифан проснулся от тишины, режущей разум. Его покои в Хроноскопе, обычно наполненные гулом парящих шестерён и шёпотом песочных часов, затихли, словно мир умер. Он лежал на ложе, сотканном из звёздного света, его кожа, мерцающая, как пыль далёких галактик, дрожала от холода, которого не должно было быть.
Сначала Кёнифану показалось, будто его глаза закрыты, и он видит лишь тёмные, непроницаемые веки, покрытые тонкой, тревожной дрожью. Но стоило ему моргнуть, как сознание вновь вздрогнуло, и он увидел серебристую, мерцающую сеть нитей, пронзающих пустоту, будто тончайшие прожилки невидимой ткани, в которую кто-то небрежно вплёл его самого. Эта паутина окружала его со всех сторон, дышала вместе с ним, и ему казалось, что его тело тоже состоит из этих нитей, дрожащих от малейшего движения.
Только спустя несколько мучительных мгновений Кёнифан понял, что он не просто смотрит на нити, но и ощущает их в своём теле – они пульсировали в венах, скользили под кожей, вызывая тупую боль и холодный ужас. Он поднял руку и тут же ощутил головокружение: тонкие пальцы казались полупрозрачными, сквозь них просвечивали серебристые паутинки, дрожащие в унисон с сердцем.
Принц Времени с трудом приподнялся с кровати, пытаясь вспомнить, как он оказался в подобном состоянии, но воспоминания ускользали, словно вода сквозь пальцы. Его сознание заполняли лишь отголоски прошлого, обрывки мыслей, тени лиц и слов, которые казались знакомыми, но непостижимо далёкими.
В комнате царил тревожный полумрак. Стены Хроноскопа, цитадели Времени, были сотканы из шестерёнок и тонких, перетекающих песочных часов, наполненных мерцающим песком, который никогда не переставал струиться, кружиться и шептать что-то неразборчивое. Через высокие, стрельчатые окна проникал слабый свет, но свет этот был неправильный, размытый, хаотично меняющий оттенки от белёсого до кроваво-красного.
Кёнифан сделал глубокий вдох, чувствуя, как в груди отзывается резкой болью каждая ниточка, пронизывающая его существо. Он попытался привести в порядок мысли, собраться с силами, но его внимание тут же отвлёк странный холод, коснувшийся его щеки.
Он резко повернул голову, и заметил на подушке странный предмет, отчётливо контрастирующий с белизной шёлка. На ней лежала прядь волос – но не мятного оттенка, который всегда был гордостью Кёнифана, а иссиня-чёрного цвета, словно она была соткана из чистой тьмы.
Дрожащими пальцами он прикоснулся к пряди и тут же отдёрнул руку, почувствовав, что она холодна, как лёд, и словно высасывает тепло его собственной кожи. В висках пульсировала тревога, постепенно перерастающая в панику. Кёнифан поднял руки и коснулся своих волос – некогда сияющие мятные пряди теперь были неровно обрезаны, едва доставая до подбородка. Они потеряли свой блеск, и лишь тускло отражали мерцание нитей, дрожащих вокруг.
В комнате вдруг стало холоднее, и стены словно начали приближаться. Кёнифан услышал тихий шёпот, словно тысячи голосов говорили одновременно, каждый на своём языке, каждый по-своему пугающий. Он инстинктивно взглянул на огромное зеркало, висевшее на противоположной стене, и тут же ощутил, как кровь в жилах превращается в ледяные иглы.
В зеркале, вместо собственного отражения, Кёнифан увидел фигуру брата. Кённесепан стоял молча, его глаза были печальны и холодны, как ледники на краю мироздания, а за спиной клубилась непроницаемая тьма, словно он принёс её из того неведомого края, куда отправился тысячи лет назад. Брат поднял руку, словно приветствуя Кёнифана, но в его глазах читался немой упрёк, жестокое обвинение, не нуждающееся в словах.
– Нет! – выдохнул Кёнифан, делая шаг назад и почти падая. Зеркало дрогнуло, и отражение Кённесепана исчезло, оставив после себя лишь обычное отражение комнаты.