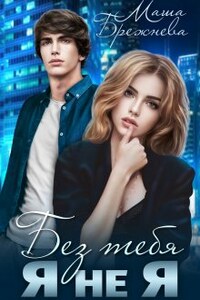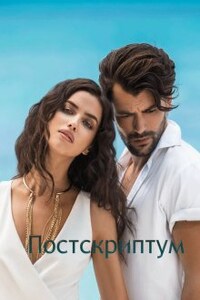– Я дома, – радостно пропела, вбегая
в темноту коридора. Прижимала к груди рюкзак с дневником, в котором
бесстыже красовался ровный ряд пятерок за год. Улыбалась, зная, что
мамочка будет довольна, а отец одобрительно кивнёт, разглядывая
документ. От счастья хотелось кричать и смеяться. Много, до боли в
скулах или жжения в легких. Прощай, школа!
Сняла джинсовую куртку и замерла…
Дверь моей комнаты была приоткрыта, маня теплым свечением ночника в
виде единорога, что игриво разбрасывал звездочки по розовым обоям.
Сквозь глухое тревожное сердцебиение, что отдавалось в уши
барабанной дробью, я услышала быстрые шаги и странный хруст
рвущейся бумаги. По коже побежали мурашки, тело парализовал страх и
гадкое предчувствие беды. Радостные, легкие мысли испарились,
погружая меня в туман неизвестности, который можно было разрушить,
лишь сделав шаг ближе к полоске света, что разрезала темноту
коридора.
Бросила рюкзак на пол и зачем-то
пошла навстречу страху.
Но лучше мне было бы сбежать! Потому
что, войдя в свою комнату, мной завладело желание взвыть от
ужасающей картинки.
– Что ты делаешь?
Моя собственная мать металась по
комнате загнанным зверем. Движения её были рваными, резкими,
совершенно лишенными той интеллигентной утонченности, которой она
была пропитана насквозь. Мама дикой кошкой носилась по разорванным
тетрадям, учебникам и лохмотьям одежды, которыми был усыпан дубовый
паркет, в поисках того, что можно было ещё сломать, испортить,
изуродовать. Сильно била ногой о перевернутый письменный стол,
ящики которого превратились в щепки.
Я схватилась за горло, чтобы унять
рвущийся крик, и пошатнулась, прижавшись к двери. Зажмурилась в
надежде, что это сон. Что все это мне привиделось, показалось. Но
нет, распахнув взгляд напоролась на уродство, в которое
превратилась моя любимая уютная комната. Сетчатая тюль болталась на
двух крючках, а в местах, где были прикреплены клипсы с маленькими
фотографиями, сделанными в лагере, образовались дыры. Желтые кашпо
с цветущими фиалками валялись на полу, засыпав изрезанный розовый
плед землей. Даже кровать распотрошила, а любимый плюшевый медведь,
подаренный дедушкой, валялся на подоконнике, зияя вспоротым
брюхом.
Ничего не осталось… Все было стерто,
словно мама намеренно следы моего существования уничтожала.
Вжалась в дверь, ощущая спасительную
прохладу от стеклянных вставок, и молилась, лишь бы не рухнуть в
обморок. Вновь и вновь обводила взглядом то, что дарило уют и
спокойствие, которое теперь превратилось в руины.
Она, услышав мой плач, застыла лицом
к окну, согнувшись так, будто груз на шее висел, оттягивающий
хрупкие плечи к земле. Не двигалась, лишь тяжело дышала, заполняя
комнату устрашающим хрипом.
– Мамочка… – произнесла, не понимая,
что спусковой курок нажала.
– Дрянь!! Дрянь!! – заорала мать и,
резко развернувшись, вцепилась одной рукой мне в волосы, а другой
размахивала прямо перед лицом. Знакомая жёлтая обложка, зажатая меж
скрюченных пальцев, заставила меня замереть.
Внезапно наступила тишина. Я
перестала слышать её вой, а жгучая боль отступила. Лишь наблюдала
за тем, как мама с остервенением сминает в кулаке мой дневник, что
ещё утром был личным… Ещё утром я делилась с тетрадкой в желтой
обложке с утятами, насколько была счастлива. Ещё утром моя жизнь
была МОЕЙ. А теперь…
– Ты снюхалась с этим подонком!
Отвечай, Оля!
Но я не могла произнести ни слова.
Стояла парализованная, немая и растоптанная. Я даже не могла
ощущать стыд, потому что для этого чувства внутри должно хоть
что-то трепетать, а там была пусто. Меня словно наизнанку
вытряхнули, весь мусор высыпали и посторонним
продемонстрировали.
– Дрянь! Ты – позор семьи! Что
скажут папины друзья, коллеги? Ты о нем подумала?
Неблагодарная!