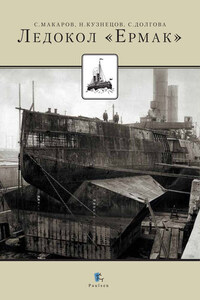Глава 1: Домой, к Теплу Бабкиному и Женской Тяге
Автобус плюнул меня на пыльную обочину как ненужную кость, выдохнув клуб дизельной вони. Я встал, ноги чуть подкосились от непривычной твердости мирной земли. Село. Мое. Родное. Три года, семь месяцев и восемнадцать дней не видел. А смотрит теперь, будто не спало, а умирало медленной смертью. Сердце сжалось тупой болью. Избы, помнившие меня пацаном, покосились, будто спина от непосильной ноши. Заборы, за которые мы прятались в "войнушке", рассыпались в труху. Даже собаки – те прежние, бойкие цепные псы – теперь лениво поднимали головы, гавкали разок для вида и затихали. Тишина. Не мирная, а мертвая. Гул тракторов, крики ребятни, бабий смех с огородов – все растворилось. Остался лишь шелест ветра в сухом бурьяне да гул в собственных ушах – не от близкого разрыва "Града", а от этой всепоглощающей, давящей тишины.
Домой? Щемящий вопрос ударил под дых. А дом-то где? Бабкин дом – тот самый, где я вырос после того, как родители в той аварии… – стоял чуть в стороне, и вид у него был такой же убитый, как у всего села. Крыша просела, шифер порос мхом, окна – мутные, слепые глаза. Мой дом. И я сам – Павел, 27 лет, бывший скотник местного колхоза, а ныне ветеран той спецоперации, что на Украине… – чувствовал себя таким же разбитым корытом. Пустым. Как та воронка после "прилета" – только внутри не осколки, а черная пустота, гудевшая от многомесячного ада и этой вот, нездешней тишины. И еще… еще дикая, животная тяга. Три года. Три года в мужском пекле – казарма, окоп, госпиталь. Три года грубости, мата, пота, крови и полного отсутствия женщины. Ни запаха, ни прикосновения, ни смеха. А хотелось… хотелось жены. Теплой, своей. Хотелось дочку – смешную, с косичками, чтобы смеялась звонко. Мечта, которая грела в окопе, когда смерть дышала в затылок. Мечта о своем очаге, о продолжении жизни, которую так легко могли оборвать там.
В груди – комок размером с кулак: сверху – щемящая радость, что жив, что ноги несут, что вижу это небо, пусть и серое; а внизу, глубже – тяжелая, горькая тоска. Тоска по тому, чего уже нет – по родителям, по шумной деревне, по своей прежней, простой жизни, где главной заботой было успеть подоить коров до рассвета. Тоска по нормальности. И еще – жгучее, нестерпимое желание женского тепла. Не просто секса – хотя и его хотелось до дрожи в коленях – а именно тепла. Ласки. Тихого слова. Чтобы рука женская коснулась по-настоящему.
Едва скрипнула калитка старого, покосившегося забора, как из избы метнулась тень. Бабка Агафья. Выглянула, вгляделась – и вылетела на крыльцо, будто ошпаренная кипятком, забыв про палку, про больные ноги. Маленькая, сгорбленная, вся в морщинах, как спелое яблоко. Бросилась ко мне, обхватила так, что кости затрещали, прижала мою щеку к своей старенькой телогрейке. Запахло сеном, печным дымком и чем-то бесконечно родным – детством.
"Пашенька! Радость ты моя! Родненький! Живой! Целый-целехонек!" – голос ее дрожал, слезы текли по щекам, оставляя блестящие дорожки на запыленной коже. Она гладила мои щеки, волосы, плечи, будто проверяя, не мираж ли.
Живой-то жив, бабуль… а целый ли? – пронеслось в голове. Там, внутри, все еще гудело. Рука сама потянулась к пачке сигарет. "Живой, бабуль, живой," – выдавил я сквозь комок в горле. Голос хриплый, непривычный к таким словам. Закурил, глубоко затягиваясь, стараясь унять дрожь в пальцах. Отвел глаза от ее радостного лица – на дом. На свой дом. Стыдно стало. Крыша – решето. Окна – ни одного целого стекла, кое-где фанера. Дверь скособоченная. Развалины. После бетонных коробок, где мы жили на передке, это казалось особенно убогим. Но это было мое. Единственное, что осталось.