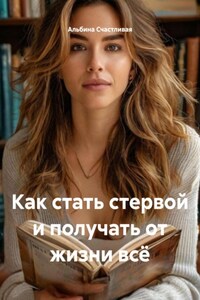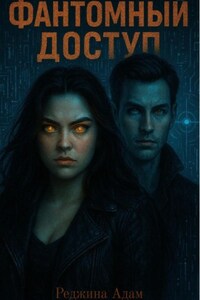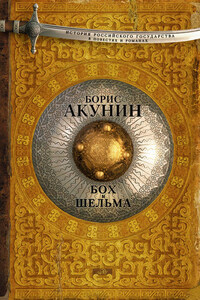Поезд выдохнул Виталину Григорьеву на перрон станции «Моторск» вместе с клубами едкого дизельного пара. Воздух ударил в лицо – не свежестью, а тяжелой смесью промозглой сырости, угольной пыли и чего-то химически-кислого, въевшегося в стены низкого, облупившегося вокзальчика. «Вечная осень», – мелькнуло в голове, и это было точнее любого описания. Серый свет, грязные лужи, облезлая зелень редких деревьев – все говорило о затянувшемся увядании.
Она стояла, сжимая ручку старого чемодана, единственной вещи, которую не побоялась взять из Лесняково. Не побоялась, или просто не успела схватить больше, убегая от призраков? От лица Рябова, холодного и торжествующего. От пустого взгляда Соколовой. От последнего хрипа Строганова и его синей ленты, ставшей ей саваном. В кармане пальто лежал ее собственный обрывок – жесткий, как струп на душе.
«Моторск. Конец пути». Название звучало как насмешка. Конец какого пути? Пути вниз? Пути в никуда? Она перевелась сюда сама, отчаянной попыткой начать все заново, спрятаться на краю света, в городе, о котором знала лишь то, что там пустует квартира бабушки по отцу, женщины, которую она видела раза три в жизни. Квартира в наследство – последний подарок от мира, который давно перестал дарить что-то, кроме боли.
Таксист, мужик с лицом, вырубленным топором из промороженного дерева, бросил чемодан в багажник «десяточки» цвета грязного снега. Машина пахла табаком, потом и бензином.
– Куда? – буркнул он, даже не глядя.
– Улица Заводская, дом два. Двухэтажка.
Таксист фыркнул, завел мотор с протестующим визгом. Машина тронулась, подпрыгивая на колдобинах.
Моторск проплывал за окном, как кадры депрессивного кино. Низкие, покосившиеся дома частного сектора, облепленные ржавыми гаражами и заборами из профнастила. Потом – серые пятиэтажки-«хрущевки», с облупившейся штукатуркой и темными подъездами. Улицы были пустынны, лишь редкие фигуры, сгорбленные против ветра, спешили по своим делам. Вездесущая грязь, лужи, в которых тускло отражалось свинцовое небо. И доминанта – гигантские, ржавеющие корпуса заводов, тянущиеся вдоль горизонта. Трубы, некоторые еще дымили слабо и уныло, другие замерли навсегда, как мертвые деревья в индустриальном лесу. Это был не город, а шрам на теле земли. Заброшка. Конец географии.
– Приграничье, – внезапно процедил таксист, будто отвечая на ее мысли. – Казахстан рукой подать. Народ тут специфический. И власть… – Он многозначительно хмыкнул. – Свои порядки. Чужакам, да еще с погонами… не рады. Особенно тем, кто копать любит.
Виталина промолчала. Его слова лишь подтверждали ее ожидания. Лесняково научило ее читать между строк. «Не рады копать» означало, что здесь есть что копать. И что копать опасно.
– Вы местный? – спросила она на всякий случай.
– Родился. Уехать не смог. Как и все, – ответил он с горькой усмешкой. – Тут или сдохнешь, или станешь таким же, как они. – Он кивнул в сторону очередной серой пятиэтажки.
Машина свернула на Заводскую. Улица оправдывала название – с одной стороны тянулся высокий, проржавевший забор какого-то полузаброшенного предприятия, с другой – стояли несколько двухэтажных кирпичных домов послевоенной постройки. Очень старых, очень обшарпанных. Дом номер два был угловым. Желтый кирпич потемнел от времени и копоти, штукатурка осыпалась, окна первого этажа защищали решетки. У подъезда – грязная лужа и разбитый фонарь.
– Приехали, – буркнул таксист, заглушив двигатель. – С вас триста.
Виталина расплатилась. Таксист выбросил чемодан на мокрый асфальт и, не прощаясь, уехал, оставив ее одну перед тяжелой, облупленной дверью подъезда. На панели кодового замка давно не было кнопок, только торчали оборванные провода. Дверь, к счастью, была не заперта, лишь притворена. Виталина толкнула ее плечом, и та с скрипом открылась, впуская ее в темноту и запах сырости, плесени и старого мусора.