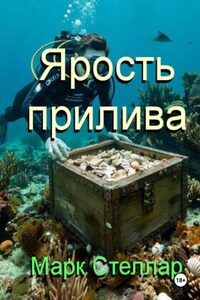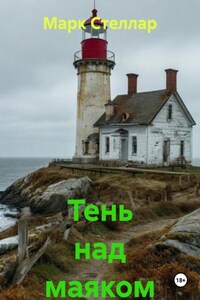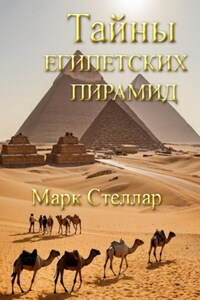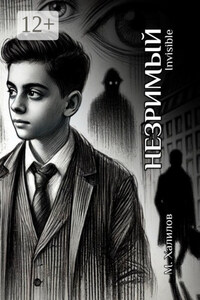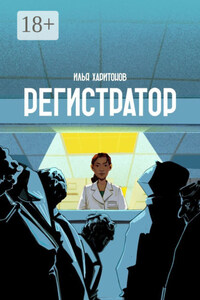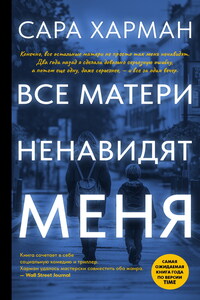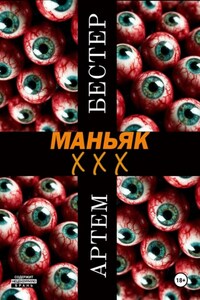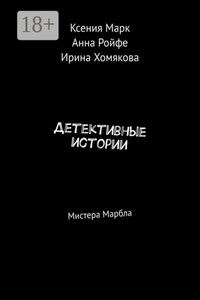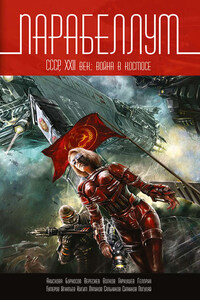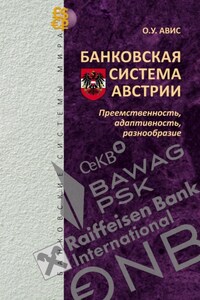Её имя звучало в музее так, будто оно было частью экспоната: Елена Воронина – консерватор-реставратор, та, кто умела возвращать вещам лица. Её пальцы были привыкшие к старым нитям, к облупленным краскам и к запаху вековой пыли, который всегда оставлял после себя на коже лёгкую горчинку. Музей стоял у берега – низкое здание с высокими окнами и видом на причал, где по утрам рыбаки тянули сети, и чайки спорили за хлебные крошки. Елена любила приходить сюда ранним утром, когда море было почти прозрачным, и робкий свет, проникая сквозь стёкла, делал её работу похожей на молитву.
В тот день в музей привезли неизведанное. Кортеж грузчиков не должен был доставлять антиквариат – обычно всё было заранее согласовано, и документы шли вместе с предметом. Но звонок директору музея прозвучал поздно вечером и был коротким: «У нас опечатанный ларец, поступил по ошибочной накладной. Попросили принять до выяснения». Номер накладной, неясное происхождение, отсутствие отправителя – всё это походило на тихую ошибку, которая на деле редко была просто ошибкой.
Ларец привезли в запакованной деревянной тумбе, завёрнутый в ткань, пропитанную морской солью. Кожа на замке потрескалась, металл пуговицы был покрыт зелёной патиной. На крышке – тонкая резьба: волна, обрамлённая странными символами, которые Елена никогда прежде не видела. Они были не просто орнаментом; в них чувствовалась система, будто кто-то шифровал мысль в узоре.
Елена подошла к ларцу без лишних слов. Рабочая лампа бросила на поверхность дерева узоры, и она, как всегда, сначала слушала тишину: ни одна вещь не подскажет свою правду голосом, у неё только язык – следы времени. Она провела ладонью по замку; металл оказался холодным, словно выдержанный в воде. На внутренней стороне крышки была приклеена бумажка – обрывок – с напечатанным кодом и обведённой красным цифрой. Рядом, в скрутке, лежал кусочек старой фотографии: часть лица, угол губ, тёмная прядь волос. Ничего больше: никакой подписи, никакого адреса.
Елена почувствовала знакомый холод в груди – не страх, скорее предчувствие. Она знала, что музей принимает вещи с историей; он был служителем памяти города. Но здесь в памяти было что-то чужое, почти опасное. Она позвала своего заведующего, но он был занят бумагами, и, как это часто случалось, оставил ей решать, что можно и нельзя вскрывать без формальных оснований.
Она открыла ларец в аккуратной тишине. Внутри лежало ещё несколько обёрток, и на одной из них – штамп порта, штамп, который она видела в других архивных записях: «Пирей – 1974». Внутри – пакет с крошечными металлическими фигурками, на которые была нанесена та же резьба, что и на крышке ларца. Казалось, что эти фигурки были частями какой-то головоломки. Но главным было другое: в углу, под набитой солью, лежал маленький листок с напечатанным номером телефона и двумя словами, наполовину стертыми временем – «смотри причал». Под номером был аккуратный штрих от ручки – как будто кто-то торопливо записал подсказку и тут же её прикрыл.
Елена сфотографировала всё, положила ларец в запечатанную камеру хранения и пошла к окну – к причалу. Она едва успела сделать пару шагов, как услышала голос в дверях. Голос был низкий, тёплый и с лёгким акцентом – голос человека, который родился у моря.
– Вы Воронина? – спросил он, будто знал, что её имя – часть интерьера музея.
Она обернулась. Перед ней стоял мужчина лет тридцати пяти – высокий, с загорелым лицом и головой, украшенной редкой щетиной, словно он только что вылез из моря. Его куртка пахла водорослями и дизелем, а глаза были цвета глубокой воды – темно-зелёные и опасно внимательные.
– Да, – ответила она, стараясь не выдать ровным дыханием интереса. – Вы кто?