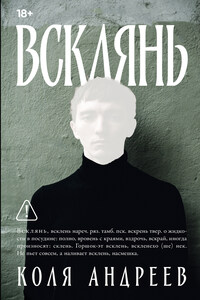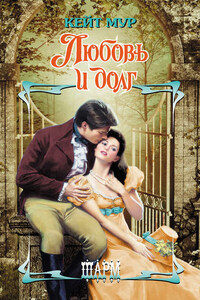Глава 1.
В Салматке отстраивали Дом Божий. За полверсты от станичной площади, где когда-то давно растворял голубые маковки в небесной лазури старый Покровский храм, на пустыре у въезда в станицу, кипела работа.
Вереницы цветастых платочков водили хоровод вокруг церковной ограды. Кто воду носил, кто кирпичики, а кто и ведра с раствором. Бабы одни! Мироносицы, светоносицы… Больше добровольцев не нашлось помогать каменщикам, нанятым настоятелем, отцом Софронием.
А какая помощь на стройке? Совсем не женская. Кирпичи – с четверть пуда каждый, коромысло с водой – пуд с гаком. А ведро с кладочным раствором – и вовсе полтора пуда! За водой еще и на соседнюю улицу до водокачки сбегай, а ведра с раствором наверх подай.
Мужики кладку выводят, торопятся до холодов. А бабы подсобничают.
– Поаккуратнее, родимые! Берите по четыре кирпича, не по шесть, Клавдия Ивановна! Вот Вы мне тут надорвете спину, в амбулаторию увезут, что я владыке скажу? Угробил-то приход отец Софроний!
Клавдия Ивановна, приходской счетовод, послушно опустила два «лишних» кирпича на поддон. Вслед за ней разгрузились и остальные бабы.
Самая старшая из стройотряда – баба Дуся, Евдокия Петровна Федорова, – тонкая, до прозрачности истаявшая осенняя былинка, стоя у стопки кирпичей, наматывала вокруг шеи косынку. Потом в эту перевязь она аккуратно накладывала по два-три камня, и валко, прихрамывая, тащила ношу к растущим церковным стенам.
Болели у бабы Дуси ноги, распухли, посинели, с трудом помещались в стоптанные башмаки. Но каждое утро, – и в солнце, и в дождь, – она приходила на работу без опозданий. Первая пташка. И отец Софроний выдыхал с восхищением: «Се, раба Господня!».
Не столько ее малая лепта – кирпичик – ценилась настоятелем, сколько молитвы, с которыми та носила непосильные для себя тяжести, и тот дар стойкости, который получила от Бога.
***
Осенью двадцать девятого холода пришли в Салматку рано. Черностоп1 был недолгим. Накануне завьюжило, обнесло станицу мороком. Тяжелые сизые тучи наползли со стороны Вольчего байрака, зацепились за купол Покровской церкви, да тут и осели.
Евдокии не спалось. То и дело ерзала по перине, вытягивала шею, прислушивалась, как сопит в люльке Катюша, маявшаяся соплями уже три дня. Переживала, что вслед за сестрой засопатит и старший сын Никитка. Потом наклонялась к мужу. Алексей дышал ровно, спал тихо. И чудилось ей, что рядом лежит вовсе не супружник, а незнакомый кто и… будто покойник!
Евдокия закрестилась, пытаясь вспомнить слова молитвы, как вдруг в дверь ударили. Три глухих стука. Может показалось?
Евдокия встала с постели, стараясь не наступать на скрипящую половицу, и подошла к окну. Сквозь сполохи света различила неясную тень.
Стук повторился, уже громче. Завозился, зафыркал в конуре пес. «Почему не залаял?» – подумала Евдокия, натягивая подшальник и обуваясь.
– Хозяева! – послышался настойчивый шепот.
– Кого нелегкая принесла? – спросонья пробурчал Алексей.
– Свои здесь. Здарова вечеривали!
– Да уж, вечеревали вчера, ночуем нонче, – проворчала Евдокия, открывая дверь.
На пороге стоял кум Петька Насонов и будто прятал что за спиной.
– Та не злись, Евдокия, дело срочное. Лексей-то где?
– Здесь я, – Алексей на ходу натягивал бешмет, – что стряслось?
– Из Георгиевска мне оказия была, шепнули, будто обоз вышел. Красные бурлаки едут мордовать да дуванить. Казаков как единоличников выселять.
– Тю, что робится-то! – взвыла Евдокия. – А нас то за шо?
– Как за шо? – искренне удивился Петька, – за чихирь, знамо! Салмак2 знатный в вас, вот за то и беруть. В коммуну не отдал надел? А с чего новой власти чихирь3 делать? А хлеб? А мерин? Все теперь общественное, негоже только для себя прятать. Сам не дал, силком отымут.