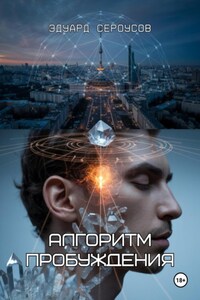Первый луч солнца впился в сетчатку, как остро отточенное лезвие. Она зажмурилась, пытаясь отвернуться, но свет преследовал ее даже под тонкой кожей век, рисуя кроваво-алые узоры. Голова… Голова была не просто пустой. Она была вычищенной дотла, стерильной, словно операционная после тотальной дезинфекции. Мысли не просто отсутствовали – казалось, их никогда и не было.
Она медленно, с трудом открыла глаза. Белый потолок. Безликий, матовый, без единой трещинки. Он нависал над ней, холодный и безразличный, как саван. Паника, тихая и когтистая, впервые пошевелилась где-то глубоко в недрах этого нового, чужого тела. Она попыталась сесть, и мир поплыл, закружился в вальсе из полутонов и неясных силуэтов.
Комната. Большая, почти пустая. Стекло и хром. Никаких личных вещей. Ни фотографий в рамочках, ни растрепанных книг на прикроватной тумбе, ни даже пылинок, танцующих в солнечном луче. Словно здесь никто не жил. Словно ее только что распаковали из заводской упаковки и оставили ждать инструкций.
Она свесила ноги с кровати. Паркет ледяным прикосновением обжег босые ступни. Она посмотрела на них. Длинные пальцы, ухоженные, но без следов лака. Чужие ноги.
– Кто я? – шепот сорвался с губ, и голос показался ей таким же незнакомым, сипловатым от сна и немого ужаса. – Как меня зовут?
Тишина в ответ была оглушительной. Она вдавила пальцы в виски, пытаясь выдавить из себя хоть крупицу памяти, хоть обрывок, клочок, пыльцу былого. Ничего. Абсолютная, тотальная пустота. Вакуум, в котором застревал собственный стук сердца – гулкий, неровный, испуганный.
Она поднялась и пошла, машинально, движимая каким-то древним инстинктом, требующим найти хоть что-то знакомое. Ее ноги сами понесли ее через комнату к огромной, во всю стену, зеркальной двери шкафа. Отражение приближалось к ней, а она – к нему, как два корабля, обреченных на столкновение в безвоздушном пространстве.
И вот она увидела себя.
Высокая. Худощавая, почти истощенная. Плечи острые, ключицы, выступающие под бледной, почти фарфоровой кожей. Каштановые волосы, коротко остриженные, беспорядочными прядями падающие на высокий лоб. И глаза… Большие, широко распахнутые, цвета темного янтаря, но сейчас наполненные таким животным, первобытным страхом, что она с трудом узнала в них собственное отражение. На ней была только длинная шелковая ночная рубашка цвета слоновой кости. Она скользнула ладонью по бедру, ощущая шелк и холодок кожи под ним. Ни имени, ни прошлого, ни даже возраста. Только оболочка. Красивая, дорогая, пустая оболочка.
Внезапно ее взгляд упал на тонкую, едва заметную белую линию, пересекающую ладонь поперек. Шрам. Старый, затянувшийся. Она прикоснулась к нему пальцем другой руки. Почему-то именно это молчаливое свидетельство прошлого, эта метка, которую она не могла прочесть, заставила сжаться все внутри. Кто-то или что-то оставило этот след. Значит, жизнь была. Была до этого утра. Куда она делась?
Ее ноги вновь понесли ее, теперь – в ванную. Ослепительно-белый кафель, никелированные поверхности. Все блестело стерильным, неживым блеском. Зубная щетка. Одна. Полотенце. Одно. Никаких следов второго человека. Она жила здесь одна. Это знание пришло само собой, интуитивно, и от него стало еще холоднее.
Она наклонилась к раковине, плеснула ледяной воды в лицо, надеясь, что шок вернет хоть что-то. Вода стекала по щекам, капала с подбородка, но внутри ничего не менялось. Пустота.
И тут ее взгляд упал на небольшую коробочку, стоявшую на полке у зеркала. Простая, картонная, без опознавательных знаков. Она потянулась к ней дрожащей рукой. Крышка откинулась без усилия.
Внутри, на мягкой бархатной подушечке, лежал старый, потрепанный ключ. Ржавый, простой, садовый ключ, каких миллионы. И крошечная, смятая черно-белая фотография. На ней двое детей, мальчик и девочка, лет десяти, обнявшись, смеются на фоне яблони в цвету. Девочка… в ее глазах было столько беззаботной радости, что стало больно смотреть. Она пригляделась. Разве… разве это не ее глаза? Тот же разрез, та же форма? А мальчик… Его лицо вызывало смутное, сдавленное чувство тревоги. Узнавание? Или страх?