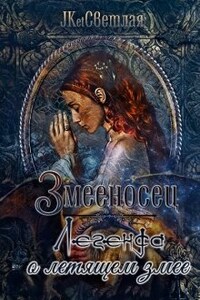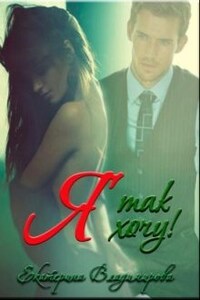...Коль буйны радости, конец их
буен;
В победе - смерть их; как огонь и порох,
Они сгорают в поцелуе.
Вилья́м наш Шекспир
Х век, Брекильен
- Пусть твой сын Наве отнесет лампу
на Гору Спасения. И вкруг себя соберет двенадцать воинов. Пусть
берегут они ее до дня и часа, покуда придет за ней тот, кому она
предназначена. И все воины будут увековечены в камне.
- Я не увижу более сына? – спросил
Мастер.
- Не увидишь. Как я не вижу дочь
свою.
- Ты сам виновен в том, что она не с
тобой. Теперь хочешь отнять моего Наве?
- Я не отнимаю твоего Наве. Я
указываю ему истинный путь, по которому суждено ступать великому
рыцарю. Его предназначение выше и больше, чем можешь ты
помыслить.
Мастер горестно посмотрел на каменный
светильник, созданный им, потом перевел взгляд на Белинуса и тихо
сказал:
- Я не увижу более сына…
- И я не вижу свою Аброн. Но будет
день – они узреют друг друга. И любовь наших детей освободит силу
камня и спасет наши души, Мастер. В мир придет тот, кто будет
больше, сильнее нас. Потому что кровь его – свет и плоть
человеческая.
- И что мне с того? Моя душа не ищет
спасения. Я не враг Веррье.
- Но мне ты друг. Пролески вянут. Она
почти пришла.
- Ты просишь большую жертву,
Белинус.
- Я отдал самое драгоценное, что есть
у меня. Ровене не выйти из Межвременья. Там она увядает среди
вечной весны, лишившись надежды. Аброн я никогда не видел и никогда
не увижу – иначе Веррье найдет их по моему следу. Тебя я прошу
отдать сына. Только в нем наше спасение. Даже когда не будет, кому
из нас ступать по земле.
- Я прокляну тебя, Белинус! –
воскликнул Мастер, не желая мириться с тем, что было ему
неподвластно. – Твой грех, Белинус!
И с этим криком бросил несчастный
старец каменную лампу, желая разбить ее о стену. Но Камень разбить
было нельзя. Лампу, творение Мастера, разбить было нельзя.
И не было иного пути, как отпустить
юного Наве в дорогу, благословляя каждый шаг его по земле.
И не было иного пути, как открыть
дверь темному норманнскому воину, присланному Веррье в маленькую
хижину в лесной чаще.
И не было иного пути, как перед самой
гибелью своей простить того, под чьими ногами расцветали прекрасные
пролески.
Но Белинус того не знал. Он лежал на
мокрой, едва только пробившейся сквозь снег траве и глядел на
синеву прекрасных цветов, которым он дал жизнь. В свой последний
час он звал их по именам. Имен было всего лишь два. Ровена и Аброн.
Те, что начинали увядать, были Ровеной. Те, что только расцветали,
вопреки приближавшемуся дыханию Веррье, были Аброн. И знал он, что
однажды встретится с ними там, куда заключен был отныне дух его,
так и не доставшийся демонице.
Межвременье
Весна.
Мама говорила, что это называется
весна.
Еще она говорила, что вечную весну
сделал для них отец. Она никогда не увидит его. А пролески помнят о
нем. И напоминают о нем.
Маленькая Аброн любила пролески.
Синие, как небо. Яркие, как солнце. И думалось девочке, что так
будет всегда: мама, улыбающаяся ей, убегающей на дальний луг, буйно
цветущие пролески и Серпан – юркий ужик, серебрящийся в зеленом
ковре…
Девочка устроилась на высоком камне,
нагретом солнцем, и, вглядываясь в небесную синеву пролесков,
позвала:
- Серпан! Где же ты, непоседа?
В ответ зазвенел ветер, гуляющий в
кронах покрывающихся ранней листвой деревьев. И вслед за ним
закивали своими головками синие цветы. А потом узкая полоса
пробежала по земле и задержалась возле камня, на котором она
сидела.
- У ваших ног, госпожа Аброн, -
раздался негромкий шепот, и змейка подняла голову, - ужасаюсь!
- Что сегодня ты увидел ужасного?
Нужно сказать, Серпан редко бывал
чем-то доволен. Вечно угрюмый, что так не вязалось с его юркостью,
вечно порицательно сопящий, что казалось смешным, если учесть, что
он всего-то обычный уж.