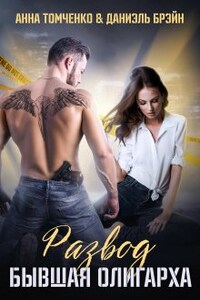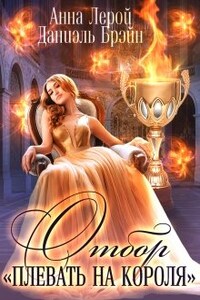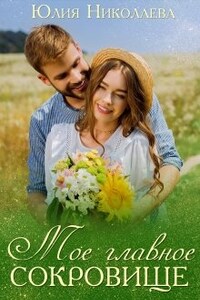Старая квартира пахла легкой пылью и
немного — лавандой и ладаном. Сквозь продранные поколениями котов
шторы и давно пожелтевший тюль пробивались лучи уже заходящего
солнца и ложились на вытертый, скрипящий при каждом шаге деревянный
пол.
И котов уже не было лет десять — с
тех пор, как бабушка первый раз попала в больницу, их больше не
заводили, и полы последний раз красили при жизни дедушки, задолго
до того, как Катя родилась, и шторы эти, и тюль, и мебель — старую
«стенку» с горками и бесценным когда-то хрусталем она помнила с
самого детства, и даже запах напомнил сейчас о тетрадках, тяжелом
утюге, шипящем от попадавших брызг, и вечном страхе сжечь
перекошенный пионерский галстук, о зеленой лампе на столе и
намертво прикрученной точилке для карандашей, ненавистной Лене
Стоговой с ее семьей и неизменных праздничных гвоздиках.
Гвоздики тоже были из того времени,
ушедшего навсегда, а бабушка любила их — красные, белые, желтые —
любые, и Катя, вдохнув поглубже, чтобы прогнать из груди
застоявшийся ком, поправила цветы в старой, как и все в этом доме,
когда-то тоже бесценной, а сейчас не стоящей ни гроша чешской
вазе.
И бабушки больше не было, и Кате
нужно было как-то научиться с этим жить.
Ей постоянно чудилось, что бабушка
вот-вот позовет ее слабеющим, но все еще с повелительными нотками
голосом. Что она медленно, едва переставляя ноги, выйдет из спальни
и направится на кухню или в туалет. Катя вслушивалась в тишину
квартиры и то ли боялась, то ли жаждала услышать голос или шаги,
потому что больше всего на свете хотела, чтобы этого не было. А
бабушка — бабушка была.
Она и казалась вечной, красивая,
эффектная пожилая женщина, всегда ухоженная, всегда с укладкой, до
самой болезни она следила за собой с тщательностью, неведомой ни
одной современной кинозвезде. Ни отец, ни мать, ни младший брат не
были для Кати такими же важными, как эта суровая и элегантная дама,
отчитывающая ее за то, что не носит комбинацию и нижнюю юбку, за
то, что спорт — не занятие для хорошей девочки и вообще, за то, что
не доедает суп, что пропадает месяцами на сборах. Но Кате неважно
было это ворчание, потому что ни мать, ни отец, ни брат не
приходили ни на одно соревнование, не горели их глаза волнением и
азартом и никогда, ни разу, даже когда Катю отобрали в Олимпийский
резерв, никто из них не плакал от счастья. Бабушка приходила,
ворчала — и плакала.
Бабушка жила рядом с Институтом
физической культуры, и именно поэтому она забрала «эту пацанку» к
себе.
«Мое недоразумение!»
Катя не замечала, что по лицу ее
текут слезы. Ни когда ей сообщили, что бабушка снова в больнице, ни
в далеком аэропорту, из которого Катя не могла вырваться из-за
грозы, ни позже, в морге, ни в церкви, ни на похоронах, ни на
поминках она не плакала. Знала, что бабушка не одобрила бы:
«Спортсменки не плачут!» или «Морщины появятся!» — бабушка, милая
бабушка, вся сотканная из стереотипов и противоречий, разве стала
бы Катя той, кем она стала, если бы не она?..
Квартира отходила Кате по завещанию.
Нужно было пережить гнев двоюродных братьев и сестры с их
отпрысками, визги тетки и пьяную морду дяди, еще предстояла сильная
моральная поддержка в лице младшего брата Ваньки, в присутствии
которого моментально затыкались самые недовольные, облегчение на
лицах матери и отца. Им была не нужна квартира, как не нужна и
Ваньке, да и самой Кате, им всем было совсем ничего не нужно, но
Катя знала, что бабушкин подарок никому не отдаст. Это была
последняя воля, бабушкино желание, и Катя прикидывала, сможет ли
она когда-нибудь перебраться сюда жить из своей новостроечной
«двушки» в уютном жилом квартале за МКАДом, потому что все — каждая
вазочка, каждый скрип половицы, каждая щербинка на старой «стенке»
— все здесь будет напоминать ей о бабушке. И одновременно она
понимала, что и менять ничего здесь не хочет. Ни обои, ни тюль, ни
мебель.