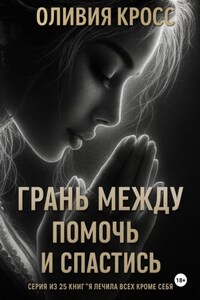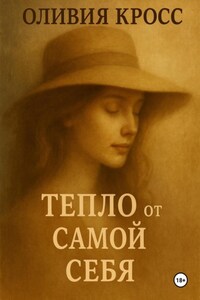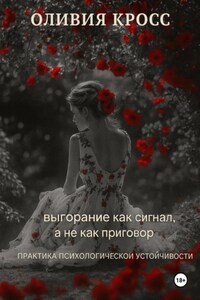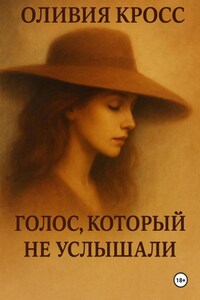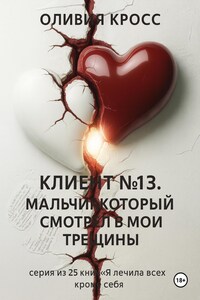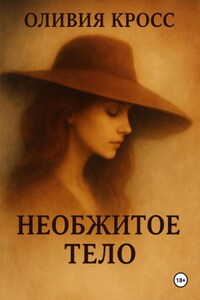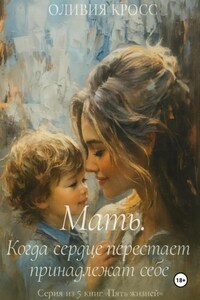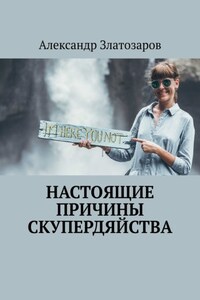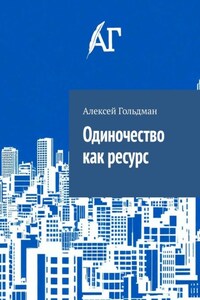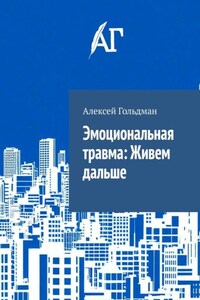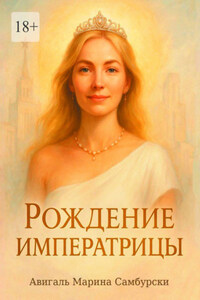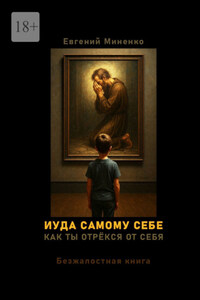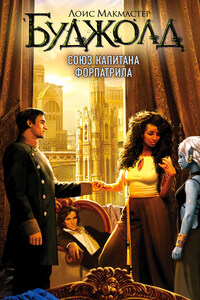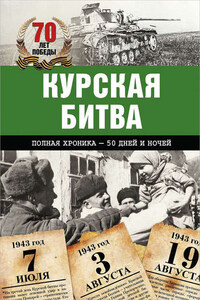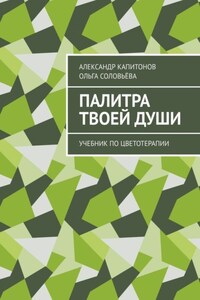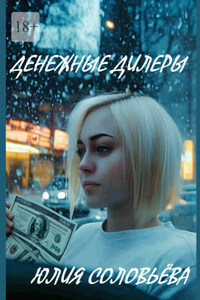Книга 12
Глава 1. Когда помощь становится ловушкой
Я долго не понимала, что моя тяга помогать другим – это не просто часть профессии, не просто доброта или эмпатия, а ещё и способ спрятаться от самой себя. На поверхности всё выглядело безупречно: психолог, готовый в любое время дня и ночи ответить на звонок, выслушать, поддержать, найти нужные слова. Но за этой картинкой была другая правда – чем глубже я погружалась в чужие проблемы, тем меньше слышала собственные. И чем больше я старалась “спасти” кого-то, тем отчётливее избегала вопроса: а кто спасёт меня?
Я помню время, когда мне казалось, что каждый человек, появившийся в моей жизни, – это миссия. Не просто клиент, не просто друг или знакомый, а задача, которую нужно решить. Если он в беде, я должна найти выход. Если он страдает, я должна облегчить боль. Если он тонет – я обязана прыгнуть в воду. Я даже не задумывалась, что иногда, пока я тащу кого-то к берегу, сама уже не чувствую ног и задыхаюсь от усталости.
В какой-то момент я начала путать понятия: помогать и жить за кого-то. Моя граница между “сопровождать” и “тащить” была настолько стёрта, что я перестала видеть, где заканчивается моя ответственность. Я приходила домой после приёмов и не могла переключиться – чужие голоса, слёзы, истории ехали со мной в маршрутке, ложились рядом в кровать, вставали утром раньше меня. Я носила их в голове, как тяжёлый рюкзак, который никто не просил меня брать, но который я сама же и повесила на плечи.
Помощь стала моим оправданием. Оправданием того, что я не занимаюсь собой. Оправданием того, что мои собственные раны всё ещё кровоточат. Мне казалось, что, если я делаю “добро”, то мои собственные боли можно отложить на потом. Но это “потом” никогда не наступало. Оно раз за разом отодвигалось новыми чужими историями. И каждый раз, когда внутри меня поднималась собственная тоска, я спешила найти того, кому можно “помочь” – чтобы не слышать себя.
Было что-то опьяняющее в ощущении, что я нужна. Что кто-то не справится без меня. Что моё присутствие – это разница между их крахом и их спасением. Я словно брала на себя роль Бога, решая, что именно я должна быть тем человеком, без которого всё рухнет. И каждый раз, когда кто-то говорил: “Спасибо, ты меня спасла”, – внутри разливалось тепло, похожее на наркотик. Это было моё топливо, моя доза признания.
Но никто не говорил о том, что “спасение” может превратиться в зависимость. И не только у тех, кому я помогаю, но и у меня. Я привыкла к состоянию вечной готовности, как солдат на войне, который не снимает сапоги даже во сне. Я не знала, как жить, если рядом нет кого-то, кого надо “чинить”. И каждый раз, когда жизнь вдруг становилась тихой, я ловила себя на тревоге: может, я стала бесполезной? Может, я больше не важна?
Однажды это достигло точки, откуда я уже не могла не заметить правду. Это был обычный рабочий день, к концу которого я чувствовала себя так, словно меня выжали до последней капли. Я сидела в кабинете, слушая клиента, и вдруг осознала, что не понимаю, о чём он говорит. Мои глаза смотрели на него, но в голове звучал другой голос – тихий, но настойчивый: “А ты сама-то в порядке? А если нет, то кто будет рядом, когда тебе станет плохо?” Я едва не расплакалась прямо на сессии, но сжала зубы и продолжила играть роль.
После того вечера я поняла, что застряла в странной ловушке. Я спасала, чтобы избежать себя. Но чем больше я спасала, тем хуже становилось внутри. Я начала отдавать не из изобилия, а из последних сил. Я раздавала то, что сама desperately нуждалась получить. И чем больше я это делала, тем глубже тонула в собственном истощении.
Я всё ещё не умела останавливаться. Я всё ещё не умела говорить: “Сейчас я не могу, я должна о себе позаботиться”. Слова “я устала” казались мне чем-то непозволительным, почти эгоистичным. И, наверное, только теперь, когда я оглядываюсь назад, я вижу, что самое страшное – это то, что я сама построила эту клетку. Я сама надевала наручники, подписываясь на чужие драмы и отказываясь от собственной жизни.