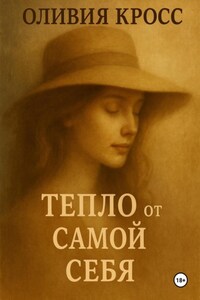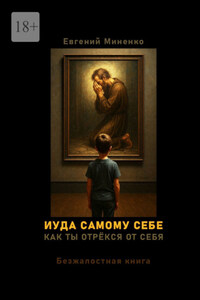Книга 4
Глава 1. Первое дыхание
Сначала был свет, слишком белый, слишком прямой, как будто кто-то поставил лампу прямо внутрь груди и включил на максимум. Воздух резал горло, руки дрожали, постельная простыня шуршала, как снег на морозе, и кто-то очень близко, почти в самое ухо, шептал: дыши, спокойно, ещё, вот так. Лиц не было видно, только голоса – стянутые резинкой, уверенные, уставшие. Казалось, что вся жизнь сузилась до одного узкого коридора между вдохом и выдохом, и если промахнуться, коридор захлопнется.
Потом тёплая тяжесть легла на грудь, и мир перестал быть болью. Маленькое тёплое существо с влажными волосами и сложенными как у воробья ладонями. Оно не умело ещё жить, только кричало, и от этого крика стало ясно: живём. Кто-то сказал: девочка. Кто-то добавил: поздравляем. А внутри тихо и растерянно прозвучало первое имя, совсем не то, которое выбирали месяцами. Имя само пришло и легло, как влажное полотенце на лоб, и больше не хотелось спорить.
Комната, в которой всё произошло, оказалась маленькой, как карман у старого пальто. Металлические стойки, чужие простыни, стул, на который никто не садился, потому что в нём было словно чужое тело. Медсестра улыбнулась, поправила одеяло, предложила воды, и вода показалась самой вкусной вещью на свете, даже вкуснее воздуха. Он стоял рядом и пытался улыбаться, но улыбка застревала, как пуговица в петле: вроде тянет, вроде рядом, а закрыть не выходит. Сказал: ты молодец, и голос у него был такой, будто шёл по льду и сам не верил, выдержит ли. В этот миг всё равно стало мягче. Девочка на груди вздрогнула, перестала кричать, вцепилась крохотными пальцами в кожу и замерла. Лицо её было чужим и своим одновременно – как в первый раз увидеть себя в зеркале утром и не сразу узнать.
Первую ночь никто не спал. Лампа под потолком то светила, то гасла, соседи за стеной стонали, этажом ниже кашляли так, будто там жили стоящие в очереди голоса. Девочка дышала неровно, запиналась, и каждый её шорох заставлял тело вставать, наклоняться, смотреть: глаза ли открыты, нет ли синевы вокруг губ, тепло ли, не слишком ли тепло. Он сидел на краю кровати, иногда дремал, вздрагивал, поднимал голову: всё нормально? Ответ, конечно, был один и тот же: нормально, потому что другого ответа просто не существовало. Нормально – значит живём, значит дышим оба, а что ещё нужно этой ночи?
На утро пришла женщина в синем халате, у неё были руки, пахнущие хлоркой и хлебом. Она покачала девочку, кивнула: крепкая. Посмотрела на грудь, на живот, на шов, сказала деловито: будет больно, но пройдёт, и добавила почти ласково: вы у неё уже есть, остальное приложится. Эта фраза осталась, как приколотая булавкой. Быть у неё – это было ново. Раньше приходилось быть у кого-то как в невидимой повинности, теперь – как в выборе, которого никто не отнимет.
Дом встретил тишиной и запахом кипячёной воды. На столе стояли бутылочки, ватные палочки в стакане, термометр с короткой памятью, пачка подгузников, сложенных в аккуратную башню. В углу мерцал жёлтый ночник – маленькое солнце, которое можно выключить щелчком. Кроватка скрипнула, когда положили девочку; она тут же распахнула рот, как птенец, и весь дом сжался, чтобы не уронить этот крик. Он метался, приносил одеяло, слишком тёплое; воду, слишком холодную; подушку, слишком высокую. Руки у него были большие и виноватые. Сказал: я не умею, научи. Ответ прозвучал сам собой: никто не умеет, учатся по дороге. И дорога началась, как начинаются снег и апрель – сразу и навсегда.
Первую неделю всё стало измеряться другими единицами. Время – от кормления до кормления, от сна до сна, от температуры воды до температуры воздуха. День был как длинная рыбья кость, к которой впивались мелкие привычки. Стерилизатор дышал паром, чайник шипел, пелёнки сохли на батарее, и в каждом движении было не бытовое, а священное. Девочка плакала громко и коротко, как будто проверяла акустику комнаты; потом затихала, вслушивалась в сердце, и сердце отвечало ей, как отвечает метро – глухо, но неизменно. Ночью казалось, что дом распухает от тишины, как от дождя, и если чуть-чуть пошевелиться, он застонет.