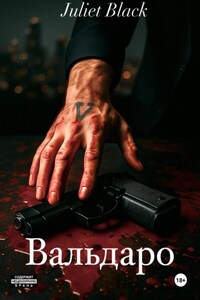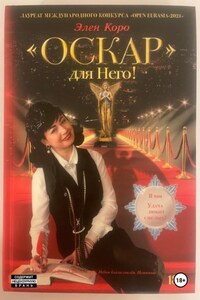Песня кузницы была единственной, что имела смысл.
Она начиналась с низкого, утробного гула мехов, вдыхающих и выдыхающих воздух, словно спящий лесной бог. Затем вплетался голодный треск древесного угля в горне, пожирающего жар, чтобы выплюнуть его обратно столпом дрожащего марева. И над всем этим, задавая ритм самому дню, царил он – звук молота. Не просто удары. Нет. Это был пульс мира, каким его видел и создавал Ратибор.
Бум. Глухой, тяжелый удар по раскаленной добела полосе железа, осаживающий металл, делающий его плотнее, послушнее. Тоннн. Звонкий отскок от наковальни, эхо, которое заставляло вибрировать воздух в полутемном срубе. Шшшшш… Шипение, когда он окунал заготовку в дубовую кадку с водой, и клубы пара взмывали к закопченным балкам потолка, неся с собой запах мокрого камня и обожженного железа.
Ратибор стоял перед горном, и казалось, сама кузница была продолжением его тела. Огонь плясал в его серых, как грозовое небо, глазах. Жар не причинял ему неудобств, лишь заставлял капли пота обильно стекать по широкой груди и рельефным мышцам спины, чертя блестящие дорожки на коже, покрытой тонким слоем сажи. На нем были лишь свободные порты из грубого льна, подпоясанные кожаным ремнем, да фартук из толстой бычьей шкуры, защищавший его от летящих искр.
Его тело было картой его ремесла. Широченные плечи и мощные руки, способные согнуть подкову, были покрыты сетью вздувшихся от напряжения вен. Каждый мускул на его торсе и спине был очерчен так четко, будто его вырезал из камня искусный ваятель. Длинные, выгоревшие на солнце русые волосы были стянуты на затылке кожаным шнурком, но несколько влажных прядей все равно прилипли ко лбу и вискам. Он был молод, едва ли разменял третий десяток, но в его облике была зрелая, первобытная сила, которая одновременно пугала и гипнотически притягивала взгляды. Особенно женские.
Он работал над лемехом для нового плуга старосты. Заказ был простой, но Ратибор не умел делать просто. Он вкладывал в каждый изгиб, в каждое уплотнение металла часть своей души. Для него это было не просто железо. Это был хаос, которому он давал форму и цель. Огонь делал металл мягким, покорным, обнажал его суть. А молот превращал эту суть в нечто полезное, прочное, вечное.
С людьми все было иначе. Они были куда сложнее раскаленного железа. Их слова были мягкими, но за ними часто скрывалась пустота или яд. Их взгляды обещали жар, но этот жар не созидал, а лишь сжигал дотла, оставляя после себя холодную золу разочарования. Ратибор чувствовал эти взгляды на себе каждый день. Когда шел к реке умыться, когда нес в дом дрова. Он видел их в глазах деревенских девок – любопытные, голодные, оценивающие. Они смотрели на его руки, плечи, на то, как движутся мышцы под кожей, и в их глазах он видел тот же огонь, что и в горне. Но этот огонь он не мог контролировать. А то, что он не мог контролировать, он презирал.
Поэтому весь свой пар, всю свою ярость и страсть, которые кипели в его молодой крови, он выпускал здесь, в кузнице. Каждый удар молота был невысказанным словом, каждое шипение остывающего металла – подавленным вздохом.
Скрипнула дверь, впуская в кузницу полосу яркого дневного света и свежий запах скошенной травы. На пороге стоял его отец, Борислав. Мужчина уже в летах, но все еще кряжистый, с такой же широкой костью, как и у сына, только время и жизнь сгладили его углы, покрыли лицо морщинами и присыпали бороду сединой.
– Опять говоришь с железом больше, чем с людьми, сын? – голос у Борислава был низкий, с хрипотцой. Он вошел и присел на старую колоду у стены, с кряхтением распрямляя больную спину.
Ратибор, не отрываясь от работы, вытащил клещами лемех из огня, положил его на наковальню и нанес еще несколько точных, выверенных ударов. Искры разлетелись веером.