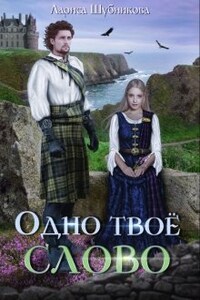– Пошла! Пошла, родимая! – Тощий дядька нахлестывал лошаденку. –
Ваньша, ступай, выведи!
Парнишка в мохнатой шапке проворно соскочил с соседнего возка и
метнулся помочь животине: та послушалась, и, угнув шею, потянула
свою поклажу – сундуки, мешки и людишек.
И не сказать, что груз велик – баба, да девка, да пара сундуков,
да мешки с мягкой рухлядью – но в распутицу и такое тяжко, иной раз
неподъемно. По ранней весне да по лесной дороге – завсегда трудно.
Тут и грязи, и снега рыхлого в достатке, а промеж того и крупчатой
наледи под полозьями.
Хочешь, не хочешь, а ехать надо. Вот и шел последний перед
теплом обоз в пяток возков, шел тяжко, неторопко: лошаденки
упирались, люди кутались в одежки, чтоб не зябнуть по лесной
сырости.
– Ваньша, ты иди на задок, – щербатая тётка, что сидела на самом
краю соседнего возка, манила парнишонка. – Вона, кожух на себя
кинь, простынешь. Видал зима-то? Лютая, весну не пускает.
– Вот дурья башка, – хохотнул незлобливо тощий возница. – Была б
теплая, куда б ты уехала? Потонули в грязи и делов-то.
– Ты не потонешь, – отбрехивалась лениво бабёнка. – Чай,
такое-то не тонет.
– Вона как, – хохотал тощий. – И куда ж такая языкастая едет?
Кому докука в дом?
– Брехун, – баба хмыкнула. – К сыну еду. Прошлым месяцем женка
его опросталась четвертым, вот и позвали в подмогу. Он в Сурганово
своим домком живет. И надел немалый, и от Порубежного далече.
– Что далече, это хорошо, – дядька оправил худой пояс на
зипунке. – Место тяжкое. А ведь и там людишки живут.
– А почему тяжкое, дяденька? – подала голос пригожая молодая
девица.
– А потому, красавица, – тощий обернулся и заулыбался, глядя на
милаху. – В Порубежном всякий день страшно. То из-за реки напасть,
то сбоку из Гольяново. В крепости почитай все вояки. И бабы, и
старики, и детишки. О мужиках и разговору нет, голову откусят и
прощай белый свет, медовуха и блинки ноздрястые. Ты, никак, в
Порубежное? Почто? Иных мест мало?
– Ты вожжи-то крепче держи, болтун, – осадила говоруна баба со
стылым взором. – Не пугай да и напраслину не возводи. В Порубежное
мы к боярину Норову.
– Да ну-у-у, – мужик сдвинул шапку со лба и смотрел малость
испуганно. – К боярину Вадиму? Силён мужик, слов нет. Уж сколь
годков ворога кромсает. Покамест далее Порубежного никто не
прошмыгнул. Знакомец он тебе? Или родня?
– И не так, и не сяк, – баба отвернулась, потуже стянув концы
теплого платка. – Не видала его досель, а вот позвал к себе на
житье, в дому хозяйствовать.
– О как, – мужик удивился. – Взял и позвал? Боярин Вадим? У него
в крепостице случайного люда нет. Все наперечет и всех по
имени.
– Чего прилип, смола? – злая баба отругивалась. – Мужа моего
покойного он знал. По боярскому сословию знакомство водили на
подворье у князя Бориса.
– Дяденька, а какой он, боярин-то? – девица подалась ближе к
тощему, выспрашивала. – Старый? Лютый? В Шорохово говорили, что
недобрый.
– Как и обсказать не знаю, – вздохнул мужик. – Молодой, а как
старик. Глазюки стылые, лик мертвый. Однова только и видал, как он
улыбкой ощерился, так тому уж года три, не меньше.
– Настасья, сядь ровно, – одернула баба. – Языком не мели, космы
прибери, растрёпа.
– Сейчас, тётенька, сейчас, – Настя принялась убирать кудряшки,
что так не ко времени повылезали из-под теплого плата.
– Стало быть, племянницу в Порубежное везешь? Не жаль девку? –
завздыхал тощий.
– И чего ты выспрашиваешь? Вон на дорогу гляди, чай, не сухота,
увязнем, – ворчала злая тётка.
– Так всю дорогу и молчать? Глянь, вокруг грязи-то, ужель на
такое любоваться? А тут и людей послушать, и самому рассказать.
Чего злобишься? Ай обидел кто? – мужик тоскливо глядел на
ворчунью.
Та никакого ответа не дала, нахохлилась, а вот Настя обняла злую
тётку, прижалась головушкой к ее плечу и зашептала тихонько: