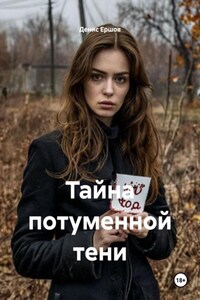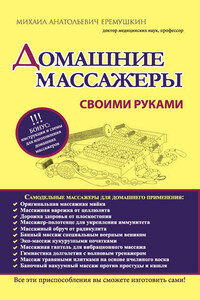Это я виновата.
Я первая высказала идею, подняла ее на щит, запустила в действие и в конце концов настояла на ее воплощении. Мой отец решительно выступал против, мать – в лучшем случае колебалась, а сестра, как всегда, была безразлична. Только мой муж Харрисон считал мысль хорошей, да и то потому, что надеялся снять с меня часть бремени.
«Ты слишком много на себе тащишь, – постоянно твердил он и добавлял: – Есть вещи, которые ты можешь контролировать, и те, которые не можешь. Нельзя же вечно делать все и для всех. Сосредоточься на нашей семье и забудь об остальных».
Он, конечно, был прав. Вот только нелегко просто так взять и забыть о других. И я, как ни пыталась, не могла не слышать за этими словами невысказанного следствия: «Если бы ты вкладывала в наш дом, в наших детей, в нашу семью хоть половину тех усилий и энергии, которые вкладываешь в родителей, в сестру, в карьеру…»
Однако именно моя карьера позволяла нам не только закрывать ипотеку, но и оплачивать счета, что давало Харрисону возможность целыми днями – и без сколько-нибудь заметного вознаграждения – работать над очередным романом.
Я говорю «очередным», хотя его первый роман вышел уже почти десять лет назад. Здесь можно добавить, что роман пользовался большим успехом. Но… Если бы я продавала всего один дом в десять лет, давно задумалась бы о другом поприще.
На это Харрисон, несомненно, заметил бы, что писательство – скорее призвание, чем работа, нечто вроде священнодействия, и ни в какое сравнение не идет с торговлей недвижимостью на перегретом и переоцененном рынке. За этим, скорее всего, последовало бы: «Непросто создать стоящий текст, когда под ногами мешается пара малолетних детей».
Последний аргумент мог бы выглядеть серьезно, если забыть, что наш сын, восьмилетний Сэмюэл, бо́льшую часть дня проводил в школе, а наша дочь, трехлетняя Дафни, – в детском саду. Конечно, Харрисону иногда приходилось укладывать их спать, когда у меня на вечер был назначен показ дома, или развлекать их, когда я вкалывала по выходным. Торговля недвижимостью – не та работа, где сидишь строго с девяти до пяти. Так и хочется сказать – в чем-то сродни писательству.
Но, разумеется, я так не говорю, потому что это наверняка приведет к ссоре. А я ненавижу ссоры.
– Мужское эго – очень хрупкий предмет, – как-то сказала мне мама.
Уж она-то знала, будучи замужем за моим отцом – не самым покладистым из мужчин – почти полвека.
Не то чтобы мама была тихоней. Она за словом в карман не лезла, и в фешенебельном Роуздейле об их громких скандалах ходили легенды. Часть моих самых ранних воспоминаний состоит в том, как я лежу в кровати, плотно зажав ладонями уши в тщетной попытке не слышать гневные обвинения и яростные отрицания, разносящиеся по обоим этажам и грозящие вломиться в дверь комнаты, которую я делила с сестрой, как всегда, безмятежно спавшей на соседней кровати. Даже сейчас, когда я не могу уснуть, мне слышатся громкие голоса родителей, пронзающие ночную тишину и врывающиеся мне в уши.
Психотерапевт, несомненно, заявил бы, что этим и объясняется моя нелюбовь к ссорам. И, наверное, оказался бы прав.
Вот бы и остальное объяснялось так же просто.
Конечно, голос моей мамы в последние годы почти смолк, задавленный неумолимой поступью болезни Паркинсона. В результате отцу, лишившемуся любимого спарринг-партнера, волей-неволей тоже пришлось смягчиться.