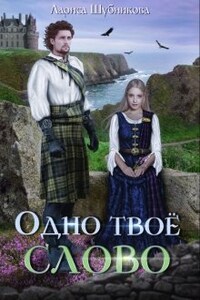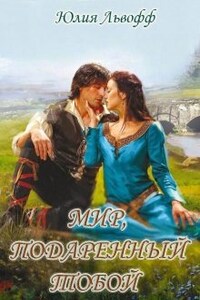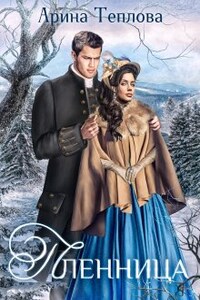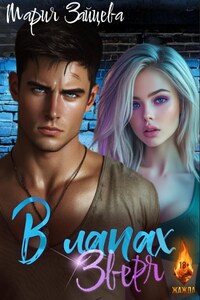На краю леса – темного и дремучего – стоял дом. Да не абы какой,
а крепкий, кряжистый, богатый. Всяк, кому доводилось побывать в
лесу, говорил, что место проклято, и лишь хоромина ведуньи
Добромилы хранит Загорянскую весь от хворей и напастей, что
напускает на людей нежить из дебрей Черемысла.
Добромила жила близ леса уже тьму лет: никто и не помнил времён
без нее. Уважали знахарку, но и побаивались. Много знала премудрая,
многое умела, с того и народец видел в ней ближницу богов –
светлых, темных и всяких иных, что серединка-наполовинку.*
Волховать* не волховала, силы не те, но травы знала, хвори гнала
настоями, отварами, водой ледяной и горячей. А иной раз и заговором
тихим. Бывало, придет к болезному, рукой поводит над ним, глаза
прикроет и давай шептать: и страх, и жуть. А болезный глядишь, на
другой день уж спит-посапывает, а на третий – ходить начинает. Вот
тебе и страсти, и жути.
Лет с десяток тому, стали Загорянские бабы примечать, что
Добромиле муторно: невеселая, неспокойная, иным разом и злая. Одним
летним днем взяла знахарка, да и ушла из Черемысленского леса, а
вернулась уж не одна, а с девчушкой годков трёх от роду: глазки
серенькие, волосики кудрявенькие, светленькие, словно пшеничка
зрелая на поле.
Признала ее внучкой, взялась передать ей науку свою: все по лесу
за собой таскала, все травки показывала, а уж потом и научила
девчонку и сушить, и тереть, и запаривать. Письму обучила*, счету
да иному всякому, чему сама поднаторела еще в отрочестве в
Новограде. С внучкой Добромила и сама будто омолодела, гнуться
перестала, глазами засияла наново. Назвала девчушку Владой и любила
крепенько, как любит под исход жизни баба, не родившая на свет
своего дитяти.
Владушка и росла при бабке доброй, расцветала. А уж когда вошла
в девичью пору и навовсе закрасавилась. Парни Загорянские частенько
бродили возле леса, все поджидали – не выглянет ли Влада, не
подарит ли словом добрым? Она и дарила, чем могла: взглядом теплым,
красой редкой. Не высока, не низка, стан тонкий, плечи округлые,
коса цвета спелой пшеницы – долгая, тугая – а глаза до того ясные,
такой жемчужной серости, что еще поискать надо. И руки нежные,
белые: бабка работой не неволила; с поры, когда внучка уронила
кровь первую, уж не посылала Владку на репища, в землице копаться
не дозволяла. Жили тем, что народец приносил за ведовство и отвары
чудодейственные. А несли немало; иной раз в домок опричь
Черемысленского леса и родовитые приезжали. И правду сказать,
болезнь-то никем не гнушается: ни богатым, ни бедным. Чай, перед
богами все равны, особо, когда голышом, без одежек златотканых и
бус драгоценных.
Добромила внучку берегла: учила уму-разуму и гордости девичьей.
Впрок пошло: Влада переняла науку от бабки доброй и ведать стала
едва ли не лучше Добромилы. А все с того, что обретался в ней дар,
подаренный светлыми богами.
Старая знахарка радовалась, глядя на Владу: смирная, умелая,
пустых гляделок не пялит, а ко всему с раздумьем и пониманием. Одна
беда – уж слишком красивой уродилась. Как пойдет по веси, так все
парни голову набок и сворачивают, провожают взглядами жадными,
дурными.
Добромила часто сны глядела вещие, истинные, данные Правью.
Однова открылась ей Владина судьба да напугала. Сон-то мутный,
будто снежком припорошенный, но одно поняла старая ведунья – все
беды, что выпадут на долю внучки, случатся из-за парней. Потому и
стерегла Владку от них, как умела; знала наверно Добромила – как
лишается ведунья девичества, так и дар ее слабым становится, родит
дитя – обессилеет навсегда. Такова воля светлых богов – так было, и
так будет вовек.
Добромила-то знала, что на внучке поцелуй самой Пресветлой
Лады*, а как же от любви сберечься, коли сама богиня ею и
одаривает? Но помнила старая ведунья, что Лада может быть и
грозной, ярой женой Перуновой. И неведомо, что получится из
Влады-ведуньи: ладуница или властительница. Неспроста и имя ей
такое дала – либо лад от нее случится, либо власть взрастёт. Ничего
наперед не стала удумывать старая знахарка, а порешила жить, как и
раньше жила: служить богам, а уж потом их милостью и людям. Тому и
внучку научила.