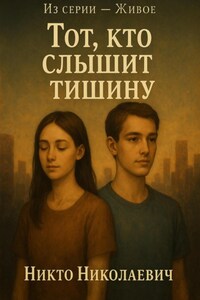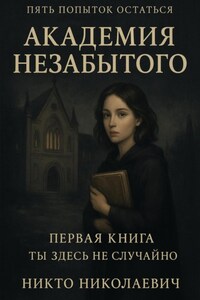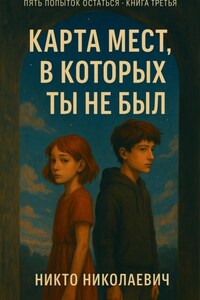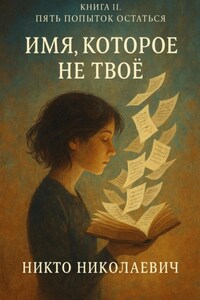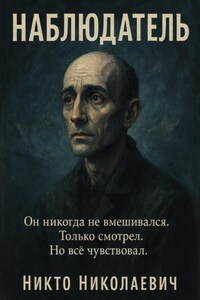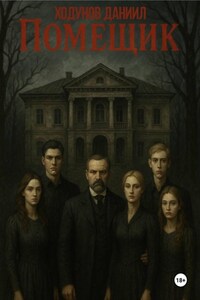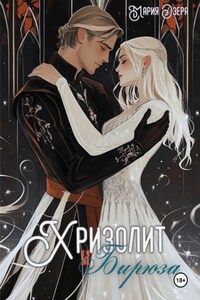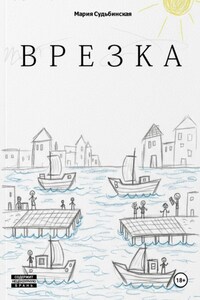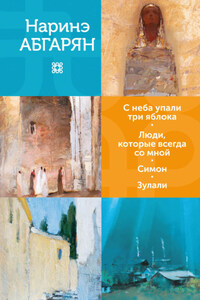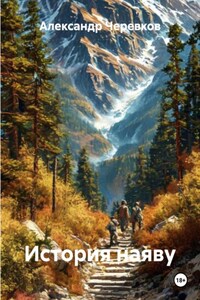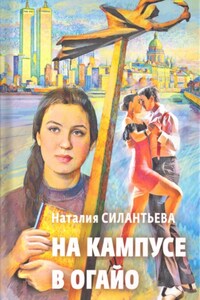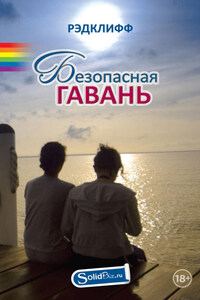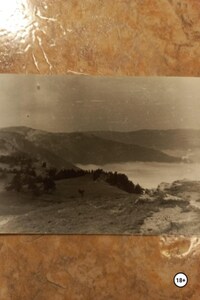Пролог
Сначала был звук. Не музыка, не речь, не шепот моря – а крошечные, бесконечные дробления времени на сигналы. Тик в ленте. Пик уведомления. Щелчок подключения. Сердцебиение света, превращенное в пакеты данных: входящие, отправленные, доставленные, прочитанные. И каждое – маленькое дрожание мира, которое подтверждает: «Я есть. Я был услышан. Я в сети».
Гиперсеть не спит. Её память разложена по миллиардам ячеек, как хлебные крошки, ведущие к чужим жизням. Она дышит равномерно и отрывисто, то рокоча громом стримов, то шорохом бесконечных переписок. В её гулком нутре сплетаются рекламные лозунги, карты желаний, карты дорог, голосовые, где люди говорят не друг другу, а в пространство – уверенные, что пространство ответит.
Голоса не имеют лиц. Они витают, как тёплая пыль, в свете мониторов. У каждого – ритм: у одних быстрый, как бег по лестнице, у других ленивый, тягучий – будто бы слово тянется и никак не отпустит. У одних – смех, короткий, официально-пластиковый, из тех, что принято вставлять в короткие видео. У других – сдержанный крик, спрессованный до иконки «!!» в конце фразы. У третьих – немое «прочитано», тяжёлая пауза, которую по распоряжению разработчиков научились заглушать новой вкладкой, новой музыкой, новым окном поверх окна.
– Слышите меня? – спрашивает один бесформенный голос.
– Слышите меня? – отвечает другой, не слыша первого.
Они похожи на узоры на воде: касаются друг друга, пересекаются, смещаются, но не смешиваются. У каждого – своя API к миру, и каждый – уверен, что понял остальное.
Линии связи, как пчелиные соты, переливаются в небе. Город внизу звучит, как орган из стекла и проволоки: автобусы оставляют после себя коммент – длинный, протяжный, с накрученным в конце хэштегом «#кудаедем». Лифты посылают отчеты о пройденных этажах, светофоры ведут статистику терпения, обувь горожан считает шаги и пересылает их в хранилища, где шаги становятся рейтингами, а рейтинги – маршрутами. Кофемашины фыркают, как уставшие киты, и тут же постят в ленту температуру воды и настроение бариста.
– Я проснулся, – сообщает кто-то, и сотни «доброе утро» накатывают, как тёплая волна.
– Я устал, – пишет другой, и ему советуют витамины, дыхательные практики и тринадцать способов повысить продуктивность за пять минут.
– Я люблю, – и сразу картинка, фильтр, где каждый оттенок кожи равен идеальному.
– Я ненавижу, – и система, натренированная на сглаживание, прикрывает глаза и предлагает «переформулировать: я расстроен».
В Гиперсети никто не уверен, откуда исходит звук. Он просто есть. Он везде, как воздух. Его слушают, чтобы не услышать себя. Его повторяют, чтобы не забыть, что повторяемое – безопасно. Он должен быть непрерывным, потому что в паузе вдруг может что-то прорваться – что-то старое, первобытное, нехранимое ни в одном облаке.
– Тишина невозможна, – говорят голоса. – Тишина – это сбой. Переход на низкую частоту. Потеря сигнала. Паника службы поддержки.
И если вдруг связь обрывается, на экранах всплывает мягкий прямоугольник с закруглёнными углами: «Хм, похоже, у вас проблемы с подключением. Попробуйте перезапустить». Люди перезагружают. Люди дергают роутер, перетыкaют кабель, выдыхают как научили – на счёт «четыре – задержка – четыре». Люди не умеют жить под шумом света и вдруг – без него. Им обязательно нужно что-то, что шуршит рядом: вентилятор, музыка, чужая речь. Без этого кажется, что в комнате появился кто-то ещё – тот, кого мы давно перестали приглашать.
Голоса заполняют всё. Они живут поверх городского ветра, поверх дыхания метро, поверх запаха влажной земли после дождя – и чем больше их, тем тише становится мир под ними. Это – общий заговор: если говорить одновременно, не слышно никого, и значит, никто не услышит тебя по-настоящему. Никто не подорвет твою броню вопросом: «А что, если ты не то?» Никто не вытащит из тебя древнюю хрящевую рыбу, которая носит имя «страх».