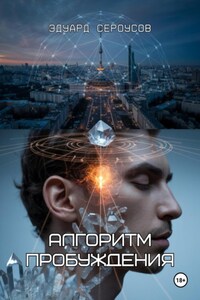Глава 1: Утреннее бездействие
Пыль.
Мириады микроскопических вселенных, состоящих из отмершей кожи, ворсинок одеяла, песчинок, занесенных с улицы на подошвах ботинок, пыльцы неведомых растений. Они плясали в луче холодного сентябрьского солнца, выхваченные из полумрака комнаты, как актеры на сцене, освещенной прицельным прожектором. Медленный, бессмысленный, величественный балет частиц, обреченных на вечное парение между кроватью и потолком.
Чешка пятый час наблюдала за этим танцем. Пятый. Черт возьми. Час.
Ее сознание, замутненное липкой паутиной не сна и не яви, фиксировало каждое движение, каждую спираль, которую описывала пылинка, прежде чем исчезнуть в тени. Она ненавидела эти пылинки. Ненавидела солнечный луч, нагло ворвавшийся в щель между неплотно сдвинутыми шторами. Ненавидела тиканье часов в соседней комнате – ровное, механическое, безжалостное. Тик. Прошла секунда. Тик. Прошла еще одна. Ее жизнь, ее молодость, ее амбиции утекали в никуда под этот дурацкий, монотонный аккомпанемент.
Но больше всего Чешка ненавидела себя. Себя, тридцатилетнюю женщину, зарывшуюся в подушку, уставившуюся в потолок и неспособную поднять руку, чтобы просто откинуть одеяло. Одеяло стало свинцовым саваном, пригвоздившим ее к постели. Тело было тяжелым, чужим, непослушным сосудом, наполненным не болью, а густым, тягучим безразличием. Это было хуже любой боли. Боль – это чувство. А здесь была лишь пустота. Черная дыра в центре груди, которая медленно, неотвратимо засасывала в себя все: желания, мысли, надежды.
«Вставай, – шептал какой-то остаток воли на дне этого колодца. – Просто сядь. Сначала сядь. Потом поставь ноги на пол. Одно движение. Всего одно».
Но ее конечности не реагировали. Они жили своей собственной, растительной жизнью. Мысли путались, набегали друг на друга, как стаи испуганных рыб.
«Вчера… а было ли вчера? Кажется, был звонок. Долгий, надрывный. Я не стала брать. А потом… потом ночь. Темнота за окном такая густая, что казалось, если протянуть руку, можно испачкать пальца в этой черной краске. И снова эти тени в углу. Не просто тени, нет. Тени – это безобидно. Это были именно что тени. Одушевленные. Дышащие. Они шевелились, стоило только отвернуться к стене».
Она зажмурилась, пытаясь вытереть внутреннюю пленку воспоминаний. Солнечный луч упрямо прожигал веки, окрашивая мир в кроваво-алый цвет.
«Пять лет назад. Небо было синим-синим, каким оно бывает только ранней осенью в горах. Мы смеялись, а эхо подхватывало наш смех и разбрасывало его по ущельям. Максим нес рюкзак с провизией, а я шла сзади и смотрела на его широкую спину, на затылок, на который падали солнечные зайчики. Я чувствовала себя неуязвимой. Счастливой. Он обернулся, его глаза сузились от улыбки, в них играли блики…»
– Чеш, смотри! – его голос, такой живой и бархатный, отдался эхом в ее черепе. – Орёл! Видишь? Парит. Полностью свободный.
Она видела. И птицу, и его лицо. Пальцы сами сжались в кулак, вцепившись в простыню, пытаясь ухватиться за тот миг, за то ощущение полета и абсолютного доверия к миру. Но воспоминание было скользким, как рыба, и уходило вглубь, оставляя после себя лишь горький осадок.
– Свободный, – прошептала она беззвучно, и слово показалось ей таким же чужим и бессмысленным, как «квантовая физика» или «счастье».
«А потом три года назад. Кабинет. Стеклянный стол. Человек в белом халате с слишком добрыми глазами. Он что-то говорил. Слова долетали обрывками: «…рецедив…», «…метастазы…», «…нужно бороться…». Максим сидел рядом, его рука сжимала мою. Его пальцы были ледяными. Холод от них проникал мне в ладонь, в вены, добирался до самого сердца и замораживал его. Я смотрела не на врача, а на пылинки, танцующие в луче света над его головой. Так же, как сейчас. Тогда я впервые подумала, что они похожи на пепел».