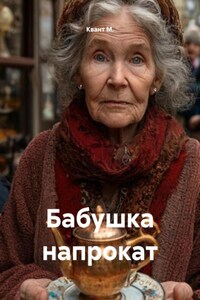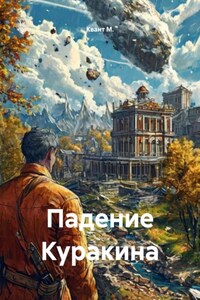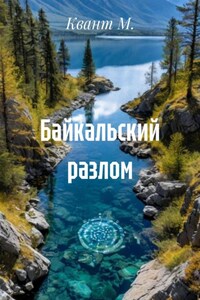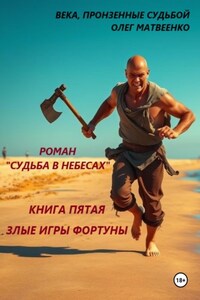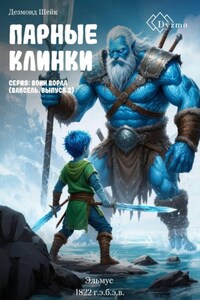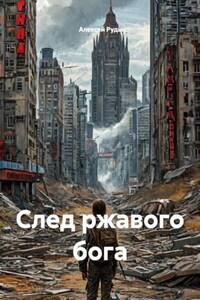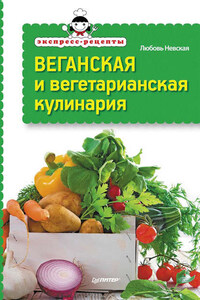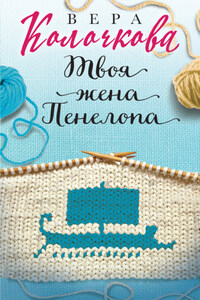Глава первая: Тихий ангар в стране огня и льда
Ветер был не просто ветром. На Камчатке он был живым существом – древним, капризным и безжалостным. Он рвал с неба низкие, свинцовые тучи, швырял колючий снег в заиндевевшие стекла и выл в стальных растяжках вышки так, будто оплакивал какую-то давно утраченную душу. Для Артема Игнатьева этот вой был музыкой. Симфонией одиночества, которая годами обтачивала его характер, делая его таким же твердым и молчаливым, как базальтовые скалы, что сторожили побережье.
Его мир был ограничен периметром биостанции «Ангара»: несколько бункероподобных зданий, вросших в каменистый склон, ангар с проржавевшей крышей и старая радиовышка, которая, казалось, прощалась с небом. Дальше – только бескрайняя тайга, сопки, курящиеся в предрассветном мареве, и далекий, ледяной вздох Охотского моря. Связь с «большой землей» была спутниковой, прерывистой и по большей части ему не нужной.
Артем стоял у большого окна в главной лаборатории, попивая остывший чай из граненого стакана. В отражении в стекле он видел свое лицо – изможденное, с резкими чертами, густой, давно не стриженной шевелюрой с проседью и глубокими морщинами у глаз, которые пролегли не от смеха, а от долгого всматривания в микроскопы и в горизонт. Ему было под пятьдесят, но в эти минуты, в потрепанном свитере и растянутых штанах, он чувствовал себя древним, как эти горы.
Лаборатория была его святилищем. Воздух был густым и стерильным, пахнущим озоном, спиртом и едва уловимым запахом теплой плоти и перьев – странным, ни на что не похожим ароматом. Вдоль стен тянулись стеллажи с реактивами, хроматографами, центрифугами и панелями управления, мигающими разноцветными огоньками. Но главное было в центре – три огромных, прозрачных био-куба, похожих на гигантские инкубаторы. Внутри них, в искусственно воссозданной среде, копошилась, росла и жила его мечта. Его грех. Его величайшее достижение и возможная погибель.
Он отставил стакан и подошел к ближайшему кубу. Внутри, среди имитации лесной подстилки, сидело существо, от которого перехватывало дыхание даже после всех этих лет. Птенец. Размером с крупного орла, но на орла он не был похож ни единой чертой. Его оперение было смесью сияющего золота и медно-красного, словно расплавленный металл, залитый в причудливую форму. Длинный, изящный хвост переливался всеми оттенками пламени – от багрового у основания до ослепительно-белого на кончиках. Даже в состоянии покоя от него исходило мягкое, внутреннее свечение, отбрасывающее на стены лаборатории причудливые блики.
Это была Жар-птица. Вернее, ее детеныш. Первый удачный, стабильный экземпьер. Артем назвал его Гориславом.
– Ну что, князь, как самочувствие? – тихо проговорил Артем, прикладывая ладонь к теплой поверхности куба.
Птенец повернул голову. Его глаза были не птичьими бусинками, а двумя каплями жидкого солнца, полными почти человеческого, осознанного любопытства. Он издал тихий, мелодичный звук, похожий на звон крошечных колокольчиков. Это был звук абсолютного доверия.
Именно это доверие и грызло Артема по ночам сильнее любого страха перед законом. Он создал их не как подопытных кроликов, а как детей. Детей, рожденных из древней памяти, из мифа, вплетенного в ДНК самой земли русской. Его работа, его одержимость не имела ничего общего с коммерцией или славой. Это был акт искупления.
Он отвернулся от куба и прошел к своему рабочему столу, заваленному распечатками, старыми фолиантами со сказками и современными геномными картами. На стене висел потертый плакат с изображением двуглавого орла и надписью «Всероссийский институт генетического наследия». Того самого института, который закрыли десять лет назад после скандала с неэтичными экспериментами. Его института. Его провал.