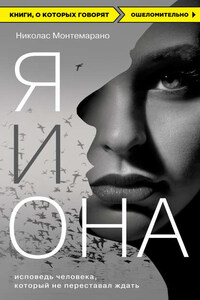Антология Ужаса 13
Антология Ужаса, часть 13, состоящая из пяти жутких рассказов:
1. После Тебя – Трагедия, произошедшая в семье, разбила жизнь на «до» и «после», но вместе с этим в дом пришло нечто потустороннее.
2. Резня Турби – После жестокой межплеменной резни в Кении, жизнь молодого воина начинает превращаться в кошмар.
3. Оболочка – История обычного таксиста, который постепенно теряет контроль над собственным телом.
4. Фьорд Забытых – На отдаленном норвежском острове семья рыбаков, живущая в полной гармонии с природой, сталкивается с загадочной катастрофой.
5. Завещание Предков – В старинном венгерском городе мужчина узнаёт, что его род обречён на древнее проклятие.
Читать онлайн Антология Ужаса 13
Книга заблокирована.
Вам будет интересно