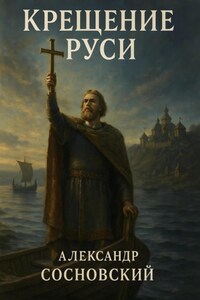Ночь опустилась на Петербург внезапно, словно черная бархатная завеса, сброшенная с небес невидимой рукой. Зима в этом году выдалась лютая, такая, что старожилы лишь кряхтели, поплотнее запахиваясь в тулупы, и поминали всуе то шведа, то самого царя-преобразователя, что возвел столицу на гибельных болотах, наперекор самой природе. Ветер, родившийся где-то над студеными водами Балтики, беспрепятственно гулял по прямым, как стрелы, проспектам, завывая в печных трубах и швыряя в замерзшие оконные стекла пригоршни колючего, сухого снега. Нева давно уже спала под толстым ледяным панцирем, и лишь черные проруби, точно незаживающие раны, напоминали о том, что под этой белой пустыней все еще течет темная, могучая вода. Город замер, притих, скованный морозом. Редкие масляные фонари, расставленные по воле градоначальников, давали тусклый, неверный свет, выхватывая из мглы то угол дома, то пролетевшие мимо полозья саней, то одинокую фигуру ночного сторожа, чей тоскливый крик «Слу-у-ушай!» тонул в вое метели.
На Английской набережной, где выстроились в ряд самые богатые и знатные особняки империи, тишина была особенно густой, почти осязаемой. Здесь, в каменных дворцах, укрытых от непогоды двойными рамами и тяжелыми портьерами, жизнь текла по своим, особым законам, невидимая для простого люда. За освещенными окнами слышался смех, звенели бокалы, шуршали шелка, плелись интриги, решались судьбы. Но снаружи царила лишь безмолвная белая мгла.
Особняк князей Орловых, один из самых пышных на набережной, казался уснувшим. Лишь в нескольких окнах второго этажа еще теплился мягкий свет свечей, но и он скоро должен был погаснуть. Весь дом, отданный во власть ночи, казался неприступной крепостью, охраняемой не столько чугунной оградой с фамильными вензелями, сколько самим именем его владельца – старого князя Петра Кирилловича Орлова, человека гордого, властного и близкого ко двору.
Именно поэтому появление тени у боковой калитки, ведущей в сад, было чем-то невозможным, нарушающим весь установленный порядок вещей. Тень отделилась от глубокой арки соседнего дома, скользнула через узкий проулок и замерла у самой ограды. На ней не было ничего примечательного, что могло бы выдать ее в этом сумрачном мире – темный длинный плащ, низко надвинутая на глаза треуголка. Несколько мгновений она стояла неподвижно, сливаясь с узором кованых прутьев, прислушиваясь к ночным звукам. Но слышен был лишь неумолчный плач ветра. Затем последовало короткое, едва заметное движение. В руке тени блеснул металл, раздался тихий, сухой щелчок, больше похожий на хруст ветки под ногой, и калитка, всегда запертая на тяжелый засов изнутри, подалась, открывая проход в заснеженный сад.
Движения незваного гостя были выверены и точны, лишены всякой суеты. Он не шел – он плыл над снегом, почти не оставляя следов, держась в тени старых лип, чьи обледеневшие ветви скрипели на ветру, словно старческие кости. Дом встретил его молчанием. Ни лая собак, ни окрика сторожа. Все было продумано. Он подошел к невысокой террасе, ведущей в библиотеку. Огромные, от пола до потолка, французские окна были темны и непроницаемы. Но и здесь не возникло заминки. Тень достала из-за пазухи тонкий кожаный сверток, развернула его. В слабом свете, отраженном от снега, мелькнул набор странных, изогнутых инструментов из вороненой стали. Несколько минут тонкой, почти ювелирной работы, и одна из массивных створок окна беззвучно отошла в сторону, впуская внутрь порыв ледяного ветра и несколько снежинок, закружившихся в темноте комнаты, словно заблудившиеся мотыльки.
Внутри особняка было тепло и тихо. Воздух был густым, пропитанным запахами воска, старой кожи книжных переплетов и едва уловимым ароматом сандала, которым старый князь любил курить в своем кабинете. Незнакомец замер, давая глазам привыкнуть к темноте. Он знал этот дом, или, по крайней мере, тот, кто его послал, знал его досконально. Он не зажигал огня. Его вели память и расчет. Минуя ряды книжных шкафов, похожих на уснувших великанов, он бесшумно скользнул по паркету, покрытому толстым персидским ковром, к массивной дубовой двери. Она была не заперта. В этом доме не привыкли запираться изнутри, полагаясь на внешнюю охрану и неприкосновенность своего статуса.