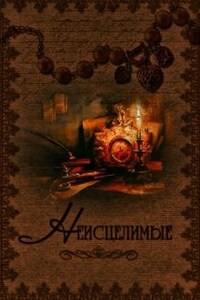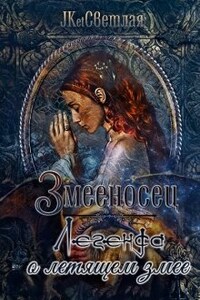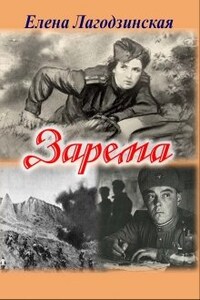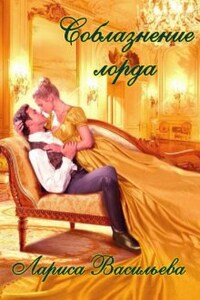...мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима...
Иосиф Бродский
Февраль 1834 года, Париж
Божена сильнее сомкнула изящные тонкие губы. Устала. Еще
немного, и крика не сдержишь. Бесконечный поток соболезнующих.
Казимир знал всех этих людей? Откуда? Они всего год здесь прожили.
Всего год. Так откуда все эти хмурые лица, глядящие на нее с
жалостью и любопытством?
Спина, перетянутая жестким корсетом, теперь уже болела – все эти
последние дни она перенесла на ногах, расправив плечи, не помня,
когда в последний раз спала. Но осознание произошедшего навалилось
на нее только теперь. Она вдова. Отчего-то это слово не причиняло
ни боли, ни тоски. Лишь легкое сожаление о своей несложившейся
жизни. Хотя что трогало ее в последнее время? Ведь никого не
осталось, ни единого человека. Брат погиб под Остроленкой. Отец
скончался от пневмонии в какой-то одному богу известной деревне по
дороге, когда пришлось оставить Варшаву. Сестра сгинула давно.
Давно, еще когда шла война… догорала в закатном пламени…
вместе с домом, в котором они выросли.
С домом было страшнее всего. Дома не стало. Вернуться
некуда.
- Пожалуйста, милая, ступайте спать, - шептала графиня де Керси, с
первого дня покровительствовавшая Абламовичам по старой дружбе с
отцом Божены, Михалом Липницким, поселившая их в своем доме и
всячески старавшаяся поддержать эту семью в трудный для нее час
изгнания.
Будто сквозь пелену бреда Божена помнила, как шла в свою спальню.
Помнила, как раздевали ее руки горничной. Помнила, как завалилась
на постель, не желая ничего столь сильно, столь яростно, как забыть
прошедшие дни, недели, месяцы, два прошедших года. Всю минувшую
жизнь. А потом находила себя на полу, рыдающей, кричащей, ползущей
куда-то – когда ее вновь подхватывали чужие руки. И вновь
укладывали в постель. До тех пор, пока жизнь и молодость в ней не
победили подступавшие кошмары, граничившие с безумием.
Май 1835 года
- Чудесная теперь весна! – с наслаждением вдыхая полной грудью
теплый воздух, проговорила графиня де Керси, кутаясь в мягкую шаль
и отпивая из чашки горячий кофе. – Вы сегодня, к слову сказать,
прелестно выглядите. Черный, разумеется, старит, но какие у вас
глаза! Хотя на вашем месте я давно позволила бы себе некую
вольность, презрев этикет. Вы красивы. А красивой женщине всегда
дозволяется немного больше…
- Обыкновенные глаза, дорогая Клэр, самые обыкновенные, -
равнодушно отвечала Божена, глядя, как в садик, где они
расположились с графиней за завтраком, вошел лакей. Он подал
конверт и так же тихо удалился.
- Это приглашение от виконта де Бово, - весело проговорила графиня
с легкой мечтательной улыбкой – она всегда так улыбалась, когда
речь шла о виконте, - нынче он потчует нас князем Чарторыйским. Я
полагаю, вам это небезынтересно, моя дорогая?
- Пан Адам и здесь персона весьма знаменитая. И все никак не
угомонится. Самый пытливый ум моей Родины, увы, едва ли он найдет
себе иное применение, чем быть «знаменитой персоной».
- Странно слышать это от вас – вы-то всегда принимали самое живое
участие в жизни вашего общества. О салоне пани Божены писал ваш
отец. Было бы чудно составить здесь ваш польский
кружок.
- Затем, чтобы французский высший свет любовался нами, как
диковинными циркачами? У вас своих революций и свершений
довольно.
Ее голос звучал довольно резко, и Божена тут же пожалела об этом.
Графиня едва ли заслуживала такого тона. Во всех своих словах она
была неизменно искренна. Пани Абламович отпила из чашки кофе и тихо
проговорила:
- А впрочем, я была бы рада вновь повидать пана Чарторыйского. Он
будет, вероятно, с супругой… И когда же суаре у
виконта?