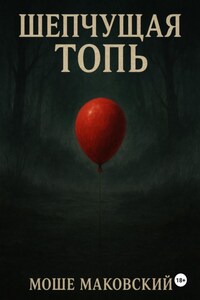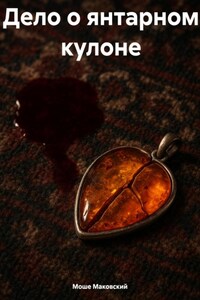Августовская жара плавила Москву, превращая воздух в густой, дрожащий кисель. В кабинете капитана милиции Аркадия Соколова, на третьем этаже типового районного управления, эта жара смешивалась с запахом старых бумаг и дешевого табака. Муха, оглушенная зноем, билась о пыльное стекло, и этот монотонный, отчаянный звук был единственным, что нарушало послеобеденную тишину.
Соколов смотрел на муху и думал, что прекрасно ее понимает.
Он сидел за своим столом, заваленным «висяками» – мелкими кражами и бытовыми драками, – и механически перебирал отчеты. Третий год в 114-м отделении. Третий год этого болота после того, как его, следователя по особо важным делам с Петровки, 38, аккуратно «попросили» на понижение. За то, что слишком глубоко копнул в деле о подпольном цехе, ниточки от которого тянулись в кабинет сына одного из членов ЦК. Дело замяли. Карьеру Соколова – тоже.
Надтреснуто зазвонил телефон, и муха, испугавшись, замерла.
– Соколов, – хрипло бросил он в трубку.
– Аркадий, это Пономарев, – раздался в трубке голос начальника, майора Пономарева. – Кончай там пыль глотать. Выезд. Проспект Вернадского, сто двенадцать, корпус три, квартира восемьдесят шесть.
– Что там? Очередной пьяный дебош? – без всякого энтузиазма спросил Соколов.
– Поспокойнее. Старик преставился. Участковый на месте, но там вроде как из «академиков» кто-то, нужна формальность. Врач говорит – сердце. Так что скатайся, составь протокол и закрой вопрос. Дело на час.
«Дело на час». Соколов криво усмехнулся. Вся его нынешняя работа состояла из таких вот «дел на час». Он раздавил в пепельнице окурок «Беломора», надел пиджак, висевший на спинке стула, и вышел из кабинета, кивнув дежурному.
Служебные «Жигули» напоминали раскаленную печку. Продираясь сквозь вязкий московский трафик, Соколов думал о том, что это дело – идеальный «глухарь». Смерть по естественным причинам. Никаких улик, никаких мотивов, никакой тайны. Просто еще один одинокий старик, чье сердце не выдержало этого бесконечного, удушливого лета. Работа для участкового, а не для капитана, который когда-то раскручивал дела, заставлявшие седеть генералов.
Дом на проспекте Вернадского оказался типичной панельной шестнадцатиэтажкой. У подъезда его уже ждал молодой сержант, участковый Лыков.
– Здравия желаю, товарищ капитан! – козырнул он. – Всё как майор доложил. Белозерцев, Игнат Степанович, восьмого года рождения. Соседка снизу вызвала, говорит, ее топить начало. Дверь вскрыли, а он на полу лежит.
– Врач что говорит?
– Борис Захарович из неотложки уже осмотрел. Острая сердечная недостаточность. Говорит, классика.
Квартира на двенадцатом этаже встретила их тяжелым запахом корвалола и застоявшегося воздуха. Это была обычная квартира советского интеллигента: стены, от пола до потолка заставленные книжными стеллажами, старый диван, покрытый пледом, письменный стол с аккуратно сложенными бумагами. В центре гостиной, у опрокинутого кресла, на ковре лежал пожилой мужчина в домашнем халате. Рядом с ним на полу валялся пузырек из-под лекарства.
Врач скорой, пожилой и усталый Борис Захарович, подтвердил свой вердикт.
– Упал, ударился, но смерть наступила раньше. Сердце, Аркадий. Я таких по десять штук в неделю вижу, особенно в такую жару. Можете оформлять.
Участковый уже начал составлять протокол. Все было очевидно. Слишком очевидно. Соколов медленно прошелся по комнате. Он не искал что-то конкретное. Он впитывал атмосферу, отмечая детали, которые не укладывались в картину.
Первое, что его смутило, – это порядок. Идеальный порядок. На письменном столе – ни пылинки. Книги на полках стояли как по линейке. Даже опрокинутое кресло, казалось, упало как-то слишком аккуратно. Человек, хватающийся за сердце в предсмертной агонии, должен был оставить больше хаоса. Смахнуть что-то со стола, зацепиться за скатерть… Но здесь все было стерильно.