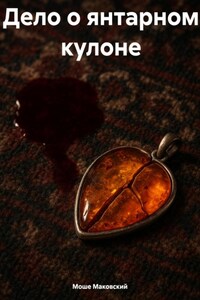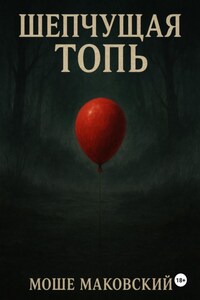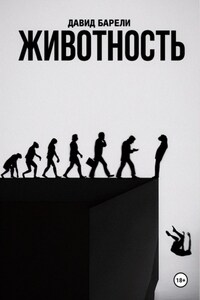Тишина в бабушкиной квартире была густой, почти осязаемой. Она пахла нафталином, сухими травами, которые Лидия Ивановна развешивала по углам, и чем-то еще, неуловимым и горьким – запахом остановившегося времени. Аня, ее единственная внучка, разбирала вещи уже третий день. Третий день она вела безмолвный диалог с человеком, которого больше не было, перебирая аккуратные стопки белья, коробки с пуговицами, аптечку с просроченными лекарствами – весь этот скрупулезный, тщательно организованный мир, в котором больше не было хозяйки.
Бабушка казалась Ане вечной. Тихой, строгой, с тугим пучком седых волос на затылке и взглядом, в котором всегда читалась легкая, непонятная печаль. Она была оплотом, константой. Даже дед, шумный и веселый, ушедший десять лет назад, казался на ее фоне чем-то временным, вспышкой. А бабушка была всегда. И теперь ее не стало.
Разбор вещей был не просто обязанностью, а попыткой оттянуть момент окончательного прощания, когда квартира опустеет, а ключ ляжет на дно Аниной сумки. Шкаф, антресоли, комод… Остался только старый дореволюционный сундук, обитый потемневшей кожей, который служил подставкой для фикуса. Бабушка никогда не разрешала его открывать. «Там старье, Анюта, хлам один», – говорила она, и в ее голосе слышались такие нотки, что спорить не хотелось.
Ключик, маленький и ржавый, нашелся в шкатулке с нитками. Замок поддался не сразу, со скрежетом и стоном, словно нехотя выпуская на волю запертые внутри десятилетия. Внутри лежали пожелтевшие кружевные салфетки, отрез тяжелого бархата и, на самом дне, он – фотоальбом.
Он не был похож на те тонкие альбомы с пластиковыми кармашками, где хранились Анины детские фото. Этот был тяжелым, в бордовой бархатной обложке, истертой на углах до основы. Аня открыла его, ожидая увидеть знакомые лица: прадеды с суровыми усами, молодые дед и бабушка на свадьбе, мама в пионерском галстуке.
На первой странице была она. Бабушка. Но не та Лидия Ивановна, которую знала Аня. На черно-белой карточке смеялась тоненькая девушка лет восемнадцати, с двумя озорными косичками и распахнутыми глазами. Она сидела на скамейке в парке, запрокинув голову, и весь ее облик излучал такое беззаботное счастье, что Аня невольно улыбнулась. Рядом с ней сидел он.
Не дед.
Совершенно незнакомый молодой человек. Высокий, темноволосый, в светлой рубашке с закатанными рукавами. Он не смотрел в объектив. Он смотрел на нее, на юную Лиду, и во взгляде его было столько нежности и восхищения, что у Ани на секунду перехватило дыхание. Под фотографией, выведенное каллиграфическим почерком, стояло: «Парк Горького. Июнь 58-го».
Аня начала лихорадочно перелистывать страницы. Вот они снова, на набережной Невы, на фоне разведенных мостов. Лида в легком платье, ее волосы треплет ветер. Он обнимает ее за плечи, и они оба смеются. «Ленинградские ночи. Июль 59-го». Вот они в аудитории университета, склонились над какой-то книгой. «Саша сдает физику. Я – верю!» – гласила подпись.
Саша. Так вот как его звали.
Страница за страницей, Аня погружалась в чужую, незнакомую жизнь своей бабушки. Жизнь, полную солнца, смеха, путешествий на поезде и студенческих вечеринок. На всех фотографиях они были вместе, и на всех они были ослепительно счастливы. Это была какая-то другая вселенная, не имеющая ничего общего с тихой, размеренной и всегда немного грустной жизнью, которую вела ее бабушка. На этих снимках не было и намека на ту женщину, что пекла пироги по воскресеньям и учила Аню вязать. Здесь была Лида – живая, влюбленная, полная надежд.
Последняя фотография в альбоме была сделана зимой. Саша и Лида стоят у заснеженной елки, он держит ее замерзшие руки в своих больших ладонях. Его лицо серьезно, а она смотрит на него с обожанием. Подпись была другой, сделанной торопливым, сбившимся почерком: «Проводы. Февраль 60-го. Он обещал вернуться».