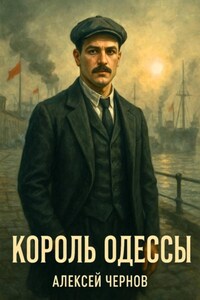Телефонный звон, резкий, как медный скрежет по стеклу, вырвал меня из вязкой, серой полудремы, где рушились империи и беззвучно кричали мертвецы. Он не просто будил – он врывался в сознание, словно набат, возвещающий о новой беде в городе, который и без того захлебывался в них. Я нашарил аппарат на ночном столике, холодный, тяжелый эбонит показался якорем, тянущим меня обратно в действительность.
– Лыков, – произнес я в трубку, и собственный голос прозвучал чужим, надтреснутым.
На другом конце провода трещало и шипело, словно сама осень пыталась просочиться в разговор. Говорил околоточный надзиратель Горохов, и его обычно зычный бас сейчас срывался на испуганный фальцет. Слова, задыхаясь, цеплялись друг за друга.
– Арсений Павлович… Ваше благородие… Тут такое…
Я сел на кровати. Спина почувствовала холод стены. В комнате пахло пылью и увяданием, вечным запахом нашей с Лидией спальни.
– Говорите по существу, Горохов. Что стряслось? Погром? Очередная экспроприация?
– Хуже, Арсений Павлович. Куда как хуже… Губернатора. Фон Цандера… в особняке его…
Пауза, наполненная треском статики, растянулась до пределов. Я ждал, и холод, начавшийся у позвоночника, медленно пополз по венам, замораживая кровь.
– Убили, ваше благородие.
Дверь спальни тихо скрипнула. На пороге стояла Лидия в своем неизменном сером пеньюаре, похожая на призрак из моих снов. Ее лицо в полумраке было бледным и непроницаемым, как всегда. Она не спросила, что случилось. Она просто смотрела, и в ее взгляде читалось то привычное, тихое осуждение, с которым она встречала каждый мой ночной вызов, каждое вторжение моей службы в нашу почти несуществующую жизнь.
– Я сейчас буду, – сказал я в трубку и положил ее на рычаг. Медный звон оборвался.
Лидия молча развернулась и ушла, ее шаги затихли в коридоре. Не было ни вопроса, ни слова поддержки. Лишь безмолвное подтверждение пропасти, что давно разлеглась между нами. Я остался один в тишине, нарушаемой лишь монотонным стуком дождевых капель по карнизу. Убили губернатора. Эти три слова не укладывались в голове. Они были слишком большими, слишком тяжелыми для этого сонного, стылого утра. Они означали, что тонкая корка льда, по которой скользил наш город, окончательно треснула. И теперь мы все летели в черную, ледяную воду.
Пока я одевался, пальцы плохо слушались, путаясь в пуговицах крахмальной сорочки. Механические, привычные движения давали иллюзию контроля. Форменный сюртук, пахнущий нафталином и холодом нетопленого гардероба. Шляпа. Портфель, в котором всегда лежали чистые листы бумаги, перьевая ручка и пузырек с чернилами. Инструменты порядка в мире, где само это слово теряло всякий смысл.
Улица встретила меня промозглой сыростью и запахом гниющей листвы, смешанным с едким угольным дымом. Октябрь в Заволжске всегда был месяцем умирания, но в этом году он казался особенно мертвым. Низкое, свинцовое небо нависало над городом, роняя на брусчатку бесконечную холодную морось, которая не очищала, а лишь размазывала грязь. Извозчик, найденный с трудом, оказался стариком с лицом, похожим на печеное яблоко, и лошадь под стать ему – костлявая кляча с выпирающими ребрами и печальными, влажными глазами.
Мы тронулись. Колеса пролетки глухо стучали по мостовой, и этот ритм отдавался в висках. Город еще только просыпался, но уже был болен. Мимо проплывали фасады купеческих особняков, с которых дождь смывал остатки былой позолоты, обнажая трещины, словно старческие морщины. Витрины многих магазинов были заколочены крест-накрест досками. У булочной уже вилась длинная, молчаливая очередь – серые фигуры под черными зонтами, люди с одинаковыми усталыми и злыми лицами. Они не разговаривали, лишь изредка переступали с ноги на ногу, кутаясь в поношенную одежду. Их молчание было страшнее любых криков.