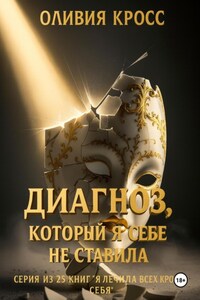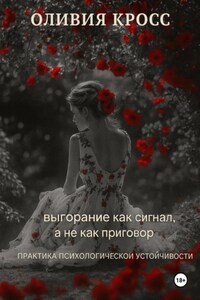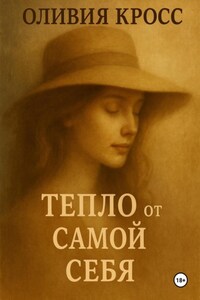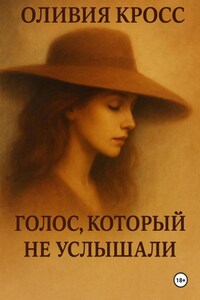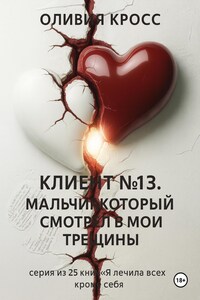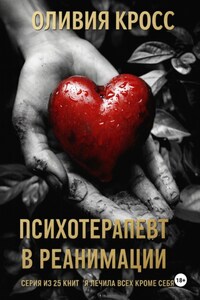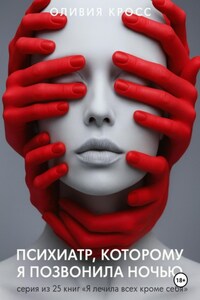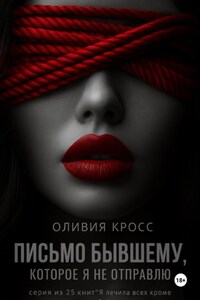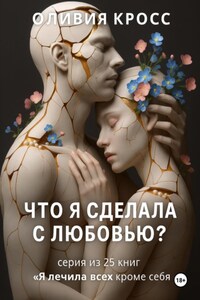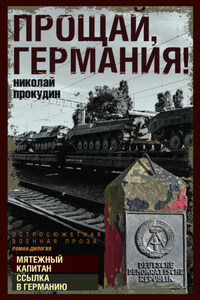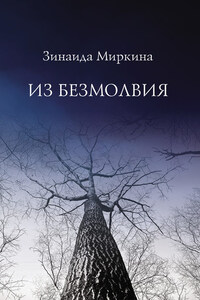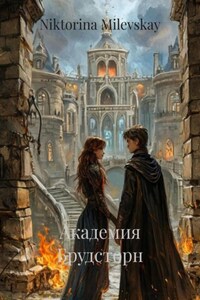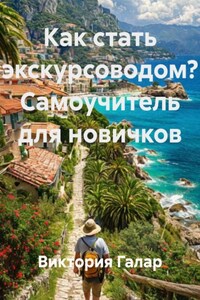Глава 1. Привычка не смотреть в зеркало
Я всегда говорила себе, что просто не люблю зеркала. Это звучало почти мило, как странная черта характера, вроде нелюбви к острым блюдам или привычки спать с открытым окном. Но на самом деле я не просто их не любила – я их избегала, как избегают нежелательных встреч. Я могла случайно поймать своё отражение в витрине или экране телефона и быстро отвернуться, словно это чужой человек, с которым я не хочу иметь ничего общего. Я пряталась от собственного взгляда, потому что знала: в нём слишком много вопросов, на которые у меня нет честных ответов.
Когда я была подростком, мама любила говорить: «Посмотри на себя!» – и это никогда не было приглашением к восхищению. Это было обвинение. Иногда я слышала его, когда приходила домой позже положенного времени, иногда – когда на моём лице были следы слёз. И я смотрела в зеркало, но видела не себя, а набор недостатков, которые нужно срочно исправить. Слишком бледная, слишком худая, волосы как солома, глаза красные. Тогда я научилась смотреть на отражение поверхностно, будто проверяю, застёгнута ли молния или нет пятен на блузке, но не глубже. Не позволяла себе задержаться, чтобы не заметить лишнего.
В студенчестве зеркала стали фоном. В общежитии они висели в коридоре, и в них отражались сотни чужих лиц. Моё – одно из многих. Я научилась быстро поправлять макияж или волосы, не задерживая взгляд на глазах. Потому что глаза выдавали усталость, бессонные ночи, те утренние похмелья, о которых я старалась молчать. Я работала на свою картинку, но картинка не имела ничего общего с внутренним состоянием.
Потом я стала психологом, и зеркала исчезли почти из моей жизни. В кабинете, где я вела приёмы, их не было, и я будто вздохнула с облегчением. Я слушала других, отражала их чувства, задавала вопросы – но самой себе я вопросов не задавала. Моя работа была своего рода побегом от себя. Я могла часами всматриваться в лица клиентов, в их мимику, движения, и при этом не иметь ни малейшего желания встретиться с собственным взглядом.
Зеркало – это ведь не просто стекло с отражающим слоем. Оно честнее любых слов. Оно не подбирает удобных формулировок, не сглаживает углы. Оно показывает, где ты врёшь себе. И я чувствовала, что если однажды я задержусь в своём отражении, мне придётся признать, что я давно не управляю собственной жизнью. Что я выгляжу старше своих лет не только из-за морщин, но и из-за усталости, которую невозможно скрыть косметикой. Что в моих глазах есть та самая пустота, которую я так часто вижу в других и знаю, чем она грозит.
Я говорила себе: «Это просто зеркало, это неважно». Но в глубине знала: моё нежелание смотреть – это симптом. Симптом того, что я потеряла контакт с собой. Симптом того, что моё «я» стало таким неудобным, что я от него отворачиваюсь. И пока я отворачиваюсь, оно продолжает разрушаться, тихо, но верно.
В редкие моменты, когда я всё же заставляла себя всмотреться в глаза в отражении, я ловила странное ощущение – будто смотрю на клиента, которому срочно нужна помощь. Чужая женщина, знакомая и незнакомая одновременно, усталая, с осунувшимися щеками и сжатым ртом. И я понимала, что не взяла бы её в терапию, потому что знала: у меня не хватит сил. Не хватит, потому что эта женщина – я.
Я научилась жить без отражений. Я подбирала одежду на ощупь, красилась на автомате, проверяя только общий силуэт. Я не хотела знать, как на самом деле выгляжу, и не хотела, чтобы кто-то другой это видел. Это была форма самозащиты: если я не вижу себя, значит, всё не так уж плохо. Значит, я могу продолжать.
Только однажды, вернувшись домой поздно ночью, я случайно включила свет в ванной и оказалась перед зеркалом лицом к лицу. Я была без макияжа, с растрёпанными волосами, глаза красные, в них – растерянность и усталость. И я вдруг поняла, что смотрю в эти глаза так же, как когда-то смотрела мама, когда говорила: «Посмотри на себя». Только теперь я сама себе это сказала. И это было не обвинение. Это был тихий, болезненный вопрос: «Сколько ещё ты сможешь так жить?»